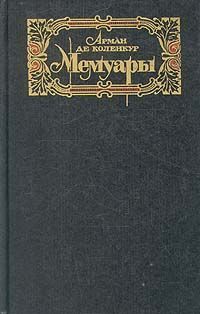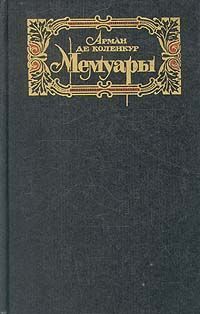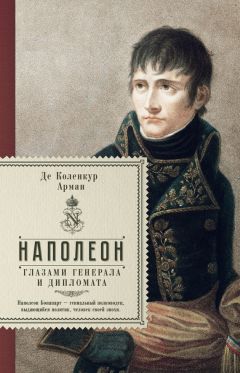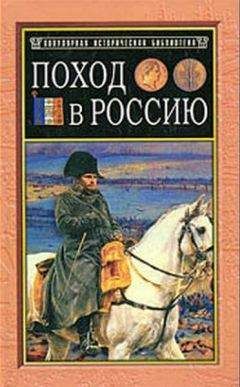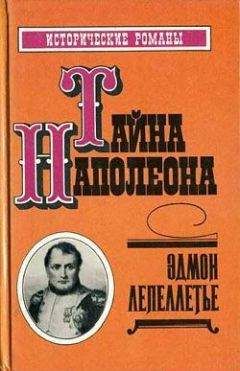Коленкур Де - Поход Наполеона в Россию
Кроме этих тем, постоянными темами наших ежедневных разговоров были Франция, императрица и Римский король. Император без устали твердил, как он будет рад снова их увидеть; он говорил о них с чувством самой нежной привязанности. Императрицу он превозносил по всякому поводу. Он говорил о ее привычках в повседневной жизни с таким чувством и таким добродушием, что становилось хорошо на душе, а о Франции и французах он говорил с большим энтузиазмом, который так отрадно было наблюдать после всех перенесенных испытаний.
- Я притворяюсь более злым, чем это есть на самом деле, - как-то сказал он мне шутя, - потому что я заметил, что французы всегда готовы фамильярничать. Им недостает серьезности, и именно поэтому серьезность импонирует им больше всего. Меня считают строгим и даже жестоким. Тем лучше: это избавляет меня от необходимости быть таким на самом деле. Мою твердость принимают за безжалостность; я не обижаюсь на это, так как такому мнению мы отчасти обязаны господствующим у нас порядкам, и нам нет необходимости прибегать к репрессиям, хотя мы еще не забыли революцию и жили в одно время с поколениями, выросшими среди смут, без всяких моральных и религиозных идей. Да, да, Коленкур, я - человек. Что бы ни говорили иные, у меня тоже есть кое-что внутри, есть сердце, но это - сердце монарха. Меня не могут разжалобить слезы какой-нибудь герцогини, но меня трогают горести народов. Я хочу, чтобы они были счастливы, и французы будут счастливыми. Если я проживу еще десять лет, благосостояние будет у нас всеобщим. Неужели вы думаете, что я не люблю доставлять людям радость? Мне приятно видеть довольные лица, но я вынужден подавлять в себе эту естественную склонность, так как иначе ею стали бы злоупотреблять. Я не раз испытал это с Жозефиной, которая постоянно обращалась ко мне с разными просьбами и даже ловила меня врасплох своими слезами, при виде которых я Соглашался на многое, в чем должен был бы отказать.
Император часто спрашивал меня, буду ли я в такой же мере счастлив вновь увидать дорогих мне людей. Проявление таких естественных, таких добрых подлинных чувств императора было мне невыразимо приятно. Я хотел бы, чтобы вся Европа могла слышать его слова и чтобы их эхо разнеслось повсюду. Я уверен, что в своих записях не упустил ни одного слова из этого разговора, который мне хотелось тогда продолжать до бесконечности.
Императору не терпелось поскорее получить эстафеты, чтобы прочесть письма из Франции, по которым он так скучал; это были бы первые письма, полученные после Сморгони. Он всячески торопил поэтому нашу поездку. В Познани мы пересекли дорогу, по которой армия шла через Кенигсберг.
В ожидании писем император по очереди перебирал всех своих министров. Он очень расхваливал великого канцлера Камбасереса, говоря, что это - человек, всегда дающий дельные советы, и выдающийся юрист. Его светлый и справедливый ум внес большую ясность в различные статьи наших кодексов, в частности в наиболее трудные статьи. Намекая на казнь короля, император сказал:
- Только из страха он не высказался за полное оправдание. Он далеко не был революционером. Это - человек, заслуживающий доверия и неспособный злоупотребить им; он всегда оправдывал оказываемое ему мною доверие. Это один из людей, наиболее заслуживающих уважения, которым они пользуются.
Что касается герцога Ровиго, то император говорил о нем, как о преданном ему человеке, с характером и самостоятельными взглядами. У него доброе сердце, говорил император; в сущности, он человек мягкий и всегда готовый оказать услугу. Его часто надували бы, если бы император его не останавливал; но он слишком корыстолюбив, что не понравилось императору и побудило его отнять у него откупную монополию на игорные дома; он постоянно просил у императора денег, хотя имел их более чем достаточно и его состояние оценивалось в 5 - б миллионов; общественное мнение относится к нему несправедливо, но по другой причине. Его забрасывали камнями потому, что он присутствовал при казни герцога Энгиенского.
- Но, - сказал император, - он ведь получил приказ присутствовать там и должен был это сделать в качестве командира отборной жандармерии. Всякий другой на его месте повиновался бы точно так же. Он гораздо лучший человек и не такой инквизитор, как Фуше. Сейчас над Савари издеваются. Правда, довольно глупо выглядит, когда сумасшедший, выбравшийся из больницы для умалишенных, захватывает врасплох дивизионного генерала, министра полиции и препровождает его в тюрьму в самом центре столицы. Это происшествие с полным основанием смешит весь Париж, а смешное убивает людей наповал гораздо вернее, чем их глупости.
Потом император заговорил о герцоге Отрантском[291]:
- Этот - просто-напросто интриган. Он замечательно остроумен и легко владеет пером. Это - вор, который загребает обеими руками. У него должно быть многомиллионное состояние. Он был видным революционером, "мужем крови". Он думает, что искупит свои ошибки и заставит забыть их, если будет ухаживать за родственниками своих жертв и разыгрывать для видимости роль покровителя Сен-Жерменского предместья. Этим человеком, пожалуй, выгодно пользоваться, потому что он до сих пор еще продолжает быть живым знаменем для многих революционеров и, кроме того, обладает большими способностями, но я никогда не смогу доверять ему.
О герцоге Гаэтском, когда до него дошла очередь в этом обозрении министров, император сказал, что он - хороший финансист, аккуратный и честный человек, принесший большую пользу в своей области. О следующем, г-не де Барбэ-Марбуа , император заявил, что это - интриган с наружностью квакера и обманчивыми манерами честного человека.
- Он долго дурачил меня, - сказал император, - потому что проявлял твердость принципов и строгость суждения, когда речь шла о других людях и о разных событиях; я решил, что и к самому себе он не более снисходителен. Это - человек, недовольный всем, который льстит власти и в то же время ненавидит ее и клевещет на нее. По существу это человек беспринципный, завистливый критикан и бездарность. В результате неправильного представления об его способностях я в течение некоторого времени питал к нему большое доверие; я слишком поздно заметил, что ошибался, и эта ошибка едва не обошлась мне слишком дорого. В счетной палате он на месте; там он не сможет прозевать что-нибудь, а так как он подчеркивает перед общественным мнением свою честность, то ему поневоле придется проявлять ее на своей новой должности.
Когда я заметил, что его считают порядочным и, главное, честным человеком, император ответил:
- О! Что касается честности, то он честен. Но что касается порядочности, то он только играет роль по существу это - интриган.
О Фонтане [293] император говорил:
- Он слишком угодлив. Но он очень талантлив. Он служит мне с большим рвением и в настоящее время хорошо руководит народным образованием. Революция сделала нас в слишком большой степени греками или римлянами; надо внушить нашим детям монархические идеи, это вполне соответствует взглядам Фонтана: по крайней мере он выставляет такие взгляды напоказ. Если бы я ему позволил, он зашел бы даже слишком далеко. Он человек умный, но ум у него маленький. Если бы я его не придержал, то он ввел бы у нас воспитание в стиле Людовика XV. Он думал, что это мне понравится. Я остановил его. Знаете, я ему как-то сказал: "Г-н Фонтан, оставьте нам по крайней мере республику литературы". Эти слова вновь направили его на путь истины. Я не боюсь энергичных людей. Я умею пользоваться ими и руководить ими; кроме того, я ничем не нарушаю равенства, а молодежь, как и вся нация, дорожит только равенством. Пусть у вас будет талант, я вас выдвину; будут заслуги я буду вам покровительствовать. Все знают это, и общая уверенность в этом идет мне на пользу. А Фонтан хотел сделать мне маркизов. Но маркизы теперь хороши только в комедии, да и там наши теперешние нравы развенчали их после того, как Моле покинул сцену, а Флери [294] был уволен. Мне нужны члены государственного совета, префекты, офицеры, инженеры, профессора. Нужно, следовательно, способствовать широкому развитию народного просвещения и немного закалить эти юные греко-римские головы. Суть в том, чтобы придать монархический дух этим греко-римским образам. Только такой и должна быть история. Я еще займусь народным просвещением, и это будет моей первой заботой после заключения мира, так как в этом - гарантия будущего. Я хочу, чтобы народное образование и даже часть того образования, которое получит мой сын, было доступно для всех. У меня есть большой проект на этот счет.
К моему великому сожалению, этот разговор был прерван нашим прибытием в Познань. Мы приехали туда до рассвета и остановились в Саксонской гостинице. Первыми словами императора были:
- Дайте мне эстафеты.
Согласно отданному мною заранее распоряжению директор почты задержал две эстафеты, проходившие через Познань. Император был в таком нетерпении, что если бы у пего под рукой был нож, он вспорол бы почтовые сумки. Так как пальцы мои онемели от мороза, то я не мог достаточно быстро составить условную комбинацию из цифр секретного замка, и император нервничал от нетерпения. Наконец, я мог передать ему письмо императрицы и письмо мадам Монтескью [295] с бюллетенем о Римском короле. Это были первые сообщения из Франции, полученные после Вильно, так как нам не везло и мы не встретили эстафеты между Вильно и Мариамполем. В пути император все время рассуждал о том впечатлении, которое, вероятно, произвело во Франции отсутствие всяких сообщений из армии. Легко поэтому представить себе, с каким интересом он принялся за депеши великого канцлера и других министров. Ему казалось, что я вскрываю конверты недостаточно быстро, - так велико было его нетерпение. Он больше пробегал страницы, чем читал их, чтобы поскорее составить себе представление обо всем. Закончив этот просмотр, он снова взялся за те депеши, которые показались ему наиболее важными. Он оказал мне честь и прочитал мне письма императрицы и мадам Монтескью, а потом сказал: