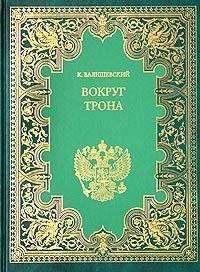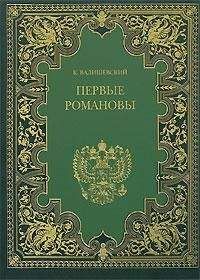Казимир Валишевский - Роман императрицы. Екатерина II
Вот каковы были ее познания и суждения в области литературы. Она читала, впрочем, очень много, но никогда не заботилась о том, чтобы подчинить свое чтение известному порядку или системе. Выбор книг, был у нее обыкновенно чисто случаен. Она читала Корнеля и Шекспира, Мольера и Гиббона, Сервантеса и Дидро, аббата Галиани и Неккера, Монтескье и Палласа, Лагарпа после Пиндара и английские сказки Локмана после Плутарха. Но неужели все ее воззрения на литературу так и не имели никакой цены? Нет, этого нельзя сказать. В них было одно большое достоинство, которое, как мы уже говорили, составляло сущность ума Екатерины: свойственный ей здравый смысл. И этот здравый смысл порою делал чудеса. В 1779 году, после смерти Вольтера, она настаивала на том, чтобы творения «ее учителя» были изданы в хронологическом порядке, по мере того, как они выходили из его головы». По этому поводу у нее разыгралась острая ссора с Гриммом. Екатерина допускала даже необходимость расчленять отдельные произведения, если только они были написаны не сразу, а частями, «чтобы все появлялось из-под печатного станка, как из-под его пера. Иначе никто ничего не поймет». Таким образом она чуть ли не на целый век опередила свою эпоху, так как этот взгляд на издание полных собраний сочинений стал преобладать в области литературной критики лишь за последние годы.
Но заниматься критикой было не ее делом: она прежде всего должна была управлять Россией, а России того времени нечего было и думать о том, чтобы вести за собой Европу по пути умственного и художественного прогресса; Россия могла только идти вслед за Западом, и то на громадном расстоянии, стараясь по возможности догнать его, однако, не подражая ему рабски, хотя и вдохновляясь созданными им образцами, развивать свой национальный литературный гений. Что же сделала Екатерина, чтобы облегчить эту задачу, как то приказывал ей ее долг, и как она мечтала о том в те светлые дни, когда приняла титул «Северной Семирамиды», и когда Вольтер говорил, что солнце, освещающее мир идей, перешло с Запада на Север? Мы думаем, что для монарха — лучший способ покровительствовать литературе — это дать ей произрастать в мире и не вмешиваться в .ее дела. Но Екатерина думала иначе. В этой области, как и во всех остальных, она стремилась проявить свою личную инициативу и неограниченную власть. Напрасно она говорила, что у нее республиканская душа; свободная республика печати превратилась у нее в монархию, управляемую ее деспотической волей. Но создала ли она хоть одну литературную силу или славу, содействовала ли успеху какой-нибудь книги, которая могла бы идти в уровень с творениями писателей, так справедливо украсивших царствование Елизаветы? Нет. Рядом с Ломоносовым и Сумароковым, прославившимися еще в предыдущее царствование, ей некого было поставить. Екатерина только приняла это литературное наследство прошлого и сейчас же заставила его служить своим личным интересам, не имевшим ничего общего с целями искусства и литературы. Ломоносов, уже сильно постаревший, был для нее вывеской, а Сумароков — его подражания французскому театру она зло высмеивала — объектом для нападок. Пожалуй, у Державина был дар великого поэта, но она этого не подозревала и так обращалась с ним, что он сам перестал это подозревать. «Фелица», поэма, доставившая ему литературную известность, не что иное, как написанный по заказу памфлет, наполовину панегирический, наполовину сатирический. Панегирик относился, разумеется, к императрице; сатира — к некоторым из придворных, самолюбие которых Екатерина находила нужным пощекотать и которым она немедленно разослала экземпляры поэмы, подчеркнув в ней относящиеся до них места. К концу ее царствования Державин был уже просто шутом в передних фаворита Платона Зубова. Серьезными соперниками Ломоносова, боровшимися с иностранным влиянием, которому подчинялся и Сумароков, и Херасков, автор «Россиады», и Богданович, воспроизведший в своей «Душеньке» надоевшие всем до приторности эпизоды любви Психеи, можно назвать Княжнина, Фонвизина, Лукина, давших народному театру несколько интересных пьес. Княжнин написал «Хвастуна», комедию, оставшуюся классической в русской литературе; в «Вадиме Новгородском» он сделал первый опыт исторической драмы, взяв ее сюжет всецело из первоисточников народных преданий. Фонвизин, этот российский Мольер, осмеял в «Бригадире» образование московских Триссотенов, почерпнутое из чтения французских романов; в «Недоросле» — воспитателей аристократической молодежи, которых за большие деньги выписывали из-за границы. Но этот национальный театр оставался для Екатерины чуждым. Она никогда его не посещала и только за последние годы, — по случайной ли прихоти, или из политических видов, — заинтересовалась постановкой русских исторических хроник.
В общем же она так мало покровительствовала литературе, и национальной и всякой другой, что сотрудники «Собеседника», периодического издания, основанного княгиней Дашковой, не решались подписывать своих статей, хотя сама императрица работала вместе с ними в этом журнале. И они были правы, потому что помнили судьбу князя Белосельского, написавшего изящное «Послание французам» и получившего от Вольтера лестный ответ, что лавры, «брошенные князем соотечественникам Фернейского философа, возвращаются к автору»: он призван Екатериной в Петербург и разжалован, — Белосельский служил посланником в Турине, — за то только, что был умен, что доказывал в своих депешах, и писал красивые стихи. Княжнин тоже испытал на себе, что значит писать русские исторические драмы. Его «Вадим Новгородский» был конфискован по приказанию императрицы и чуть было не сожжен рукою палача.
Академия, основанная в 1783 году по образцу французской и по внушению княгини Дашковой, — единственный памятник, которым русская литература обязана государыне, давшей России так много во всех других отношениях. Этой академии было поручено выработать правила правописания, грамматики и просодии русского языка и поощрять изучение истории. Работа ее началась, разумеется, с составления словаря, и в этом труде сама Екатерина приняла участие.
II. Отношение Екатерины к искусству. — Недостаток знания и дарования. — Что она понимает в музыке? — Камерная музыка с девятью собаками вместо солистов. — Опера ее величества. — Паизиелло. — Екатерина как коллекционер. — Она не «любительница», она «жадна до ненасытности (glouton)». — Покупки и заказы. — Музей Эрмитажа. — Посторонние влияния. — Любовь к резным камеям прекращается со смертью Ланского. — Мамонов тоже любит камеи. — Платон Зубов любит только деньги. — Страсть к строительству. — Почему Екатерина ставила так низко французских архитекторов? — Она была совершенно лишена чувства прекрасного. — Екатерина и Фальконэ. — Екатерина и русские художники. — Смерть Лосенко. — Все только для показа.
«Трагедия ей не нравится, комедия для нее скучна, она не любит музыки, стол ее лишен всякой изысканности; игрой она занимается только для вида; в садах она любит одни розы; она увлекается только строительством и управлением своего двора, потому что ее любовь царствовать над людьми и играть роль в мире — не любовь, а страсть».
Так нарисовал в 1773 году французский поверенный в делах Дюран портрет великой Екатерины. Он судил верно, особенно в том, что касалось искусства. Был ли это недостаток знаний у необыкновенной императрицы, или недостаток природных способностей? Вероятно, и то и другое. Она сама это сознавала. В 1767 году, когда Фальконэ представил ей эскиз статуи Петра Великого, она наотрез отказалась высказать о памятнике свое мнение: она ничего не понимала в скульптуре и отослала художника к суду его собственной совести и потомства. Но Фальконэ продолжал настаивать:
— Мое потомство — ваше величество. До другого мне нет дела.
— Нет! — возразила Екатерина. — Как вы можете полагаться на мою оценку? Я не умею даже рисовать! Может быть, это первая хорошая статуя, которую я вижу в жизни? Последний школьник понимает в вашем искусстве больше меня.
Когда дело шло об искусстве, она вообще часто ссылалась, и в разговоре и в письмах, на свое незнание и неумение судить, что шло вразрез с ее самостоятельным умом и нравом.
Она держала у себя оперу, актеров для которой набирала по всей Европе, платила громадное жалованье звездам, — а их требовательность и в те времена не знала границ, — но признавалась, что лично ей они не доставляют удовольствия. «В музыке, — писала она, — я не подвинулась вперед сравнительно с прежним. Из звуков я различаю только лай девяти собак, которые поочередно имеют честь помещаться в моей комнате, и из которых я каждую издали узнаю по голосу; а что касается музыки Галлупи, Паизиелло, то я ее слушаю и удивляюсь звукам, которые они сочетают вместе, но я ее не понимаю».