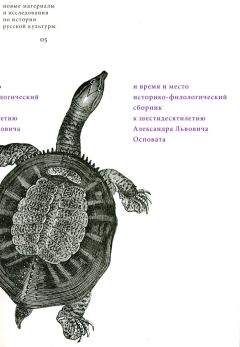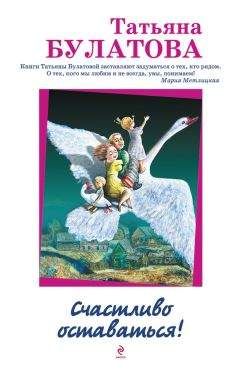Сборник статей - И время и место: Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата
С таким композиционным приемом мы встречаемся в нескольких циклах «Книги песен», когда Гейне вдруг начинает сомневаться в целесообразности объединения фрагментов (отдельных стихотворений) в единое целое; ср. например, стихотворение из цикла «Die Heimkehr» («Возвращение на родину»; 1823–1824) «Zu fragmentarisch ist Welt und Leben!», где фигура «ученого немца» пародийно соотнесена с автором цикла:
Zu fragmentarisch ist Welt und Leben!
Ich will mich zum deutschen Professor begeben.
Der weifi das Leben zusammenzusetzen,
Und er macht ein verstàndlich System daraus;
mit seinen Nachtmiitzen und Schlafrockfetzen
Stopft er die Lücken des Weltenbau.
Открывающий сборник раздел «Снега» также композиционно ориентирован на циклы Гейне, хотя в нем нет прямых лексических реминисценций его стихотворений. Фет, изображая картины русской природы, избегает резких контрастов; описывая колорит пространства и звуки, предпочитает ярким образам сдержанные, умеренные характеристики: «Как любят находить задумчивые взоры, / Завеянные рвы, навеянные горы, / Былинки сонные иль средь нагих полей <… > Круженье тучи вихрей дальных…» Ориентация Фета на изображение спокойной, уравновешенной, неяркой красоты была замечена Аполлоном Григорьевым; критик не без основания связал открывающее раздел процитированное стихотворение с традицией антологической лирики. Этот текст, по Григорьеву, «.. кажется ложным, как антологическое, перенесенное на совершенно чуждую ему почву: из нашего русского быта, в особенности из зимнего русского быта, трудно вынести то определенно-спокойное, классическое чувство, которое составляет неизбежное условие антологического стихотворения»13.
Эта тональность строго выдержана на протяжении всего раздела, поэтому особенно заметен текст, нарушающий заданную линию, – «Знаю я, что ты, малютка…» (1841; 4), вторая строфа которого воспроизводит точку зрения «ты» – малютки: «Бриллианты в свете лунном, / Бриллианты в небесах, / Бриллианты на деревьях, / Бриллианты на снегах». Центральным здесь становится световой образ («бриллианты»); анафоры чересчур назойливы в сопоставлении со сдержанным колоритом пространства в других стихотворениях; они как бы подчеркивают неуместность слишком ярких картин зимы. Легкой усмешкой над зачарованной лунной ночью героиней кажется последнее четверостишие: «Но боюсь я, друг мой милый, / Чтобы в вихре дух ночной / Не завеял бы тропинку, / Проложенную тобой». Однако и в некоторых других стихотворениях, где нет женского персонажа, присутствует мысль о хрупкости и недолговечности красивых зимних пейзажей (ср., например, последнюю строфу в стихотворении «Печальная береза…», 1842: «Люблю игру денницы / Я замечать на ней, / И жаль мне, если птицы / Стряхнут красу ветвей»; 5).
Фет с завидным постоянством намекает на то, что «классически-ясные» картины русской зимы предстают перед читателем, благодаря строгому отбору изображаемого («как любят находить задумчивые взоры»), и что красота зафиксированного мгновения эфемерна. Это едва заметное настроение тревоги в концовках стихотворений, построенных преимущественно на зрительных образах, нарастает в тех текстах, где доминируют образы звуковые14. Например, в «гейневском» стихотворении «Кот поет, глаза прищуря…» (1841): «Кот поет, глаза прищуря, / Мальчик дремлет на ковре, / На дворе играет буря, / Ветер свищет на дворе». Ключевыми здесь являются два образа, связанные с семантикой длящегося звучания («поет» – «свищет») и противопоставленные друг другу («пение» кота навевает покой, «свист» бури – тревогу). Таким образом, в первой строфе задано двойственное настроение. Во второй строфе появляется прямая речь, обращенная к мальчику и принадлежащая безымянному повествователю: «Полно тут тебе валяться, / Спрячь игрушки, да вставай! / Подойди ко мне прощаться, / Да и спать себе ступай». Нервная интонация говорящего вызвана происходящим в нем внутренним движением. Он как будто пытается себя успокоить: вслушивается в пение кота, которое призвано умерить тревогу, вызванную свистом бури. Мальчик, дремлющий на ковре, мешает говорящему сосредоточиться на внутренних переживаниях, поэтому его нужно услать из комнаты: «Мальчик встал. А кот глазами / Поводил и все поет; / В окна снег валит клоками, / Буря свищет у ворот» (6).
Противопоставление звуковых образов в сходной функции находим в стихотворении с фольклорно-балладным колоритом «Ветер злой, ветр крутой в поле…» (1847). Свист злого ветра, несущего гибель и смерть, противопоставлен здесь звукам, более близким и понятным неназванному повествователю, которые его успокаивают (подобно пению кота в рассмотренном выше стихотворении), – колокольчикам тройки и хрусту снега, по которому бежит заяц: «Ветер злой, ветр крутой в поле / Заливается, / А сугроб на степной воле / Завивается. / При луне, – на версте мороз / Огонечками, – / Про живых ветер весть пронес / С позвоночками. / Под дубовым крестом свистит, / Раздувается. / Серый заяц степной хрустит, / Не пугается» (5).
Настроение ясности и равновесия гораздо легче возникает в стихотворениях с минимальным количеством звуковых образов или при их полном отсутствии15 (как, например, в стихотворении «Чудная картина..», 1842). В последнем стихотворении раздела «На двойном стекле узоры…» (1847) это еще раз подчеркнуто: «На двойном стекле узоры / Начертил мороз, / Шумный день свои дозоры / И гостей унес; / Смолкнул яркий говор сплетней, / Скучный голос дня: / Благодатней и приветней / Все кругом меня <…>. Ты хитрила, ты скрывала, / Ты была умна; /Ты давно не отдыхала, / Ты утомлена. <…> В торжестве успокоенья / Светлой красоты, / Без улыбки, без движенья / Мне понятна ты» (9).
Героиня здесь, как и женский персонаж в «Знаю я, что ты, малютка…», связана с обманом («ты хитрила»; ср. с героиней Гейне в «Книге песен», которая постоянно обманывает лирического героя). В одном из промежуточных вариантов последней строфы (также не принятой Тургеневым) Фет возвращается к строкам из начала стихотворения: «Этот мир души прекрасной / На твоем челе, / Как дыханье ночи ясной / На двойном стекле»16. «Двойное стекло» здесь метафора преграды между персонажами: как сильный мороз не проникает в натопленную комнату, но оставляет изящный рисунок на стекле, так и «ты» понятна «я» лишь в минуты молчания (в это время «я» забывает об ее сущности и любуется внешней «застывшей» красотой – «без улыбки, без движенья»). Стихотворение, таким образом, являет собой своеобразный итог раздела. В нем присутствуют три повторявшиеся в «Снегах» мотива: хрупкости равновесия (красоты), неподвластности автору мира звуков и относительной его власти над видимым. Утверждавшаяся мысль о спокойной и уравновешенной красоте русской зимы постоянно дискредитировалась рядом иногда периферийных (как, например, в стихотворениях «Печальная береза…», «Ночь светла, мороз сияет…»), а иногда центральных образов («Ветер злой…»). Очевиден гейневский подход к композиции сверхстихового единства: параллельно выстраиванию композиционно-смыслового целого происходит разрушение или подспудная дискредитация основной его мысли. В разделе «Вечера и ночи» это выясняется лишь в конце, в «Снегах» Фет использует этот прием почти с самого начала.
Наконец, в разделе «К Офелии» «подведение итогов»17 также происходит в конце сверхстихового единства – в шестом стихотворении – «Офелия гибла и пела…» (1846). Этот раздел в издании 1856 года был фактически полностью расформирован Тургеневым. Из семи стихотворений Тургенев оставил лишь три, в том числе и упомянутый текст: «Офелия гибла и пела, / И пела, сплетая венки; / С цветами, венками и песнью / На дно опустилась реки. // И многое с песнями канет / Мне в душу на темное дно, / И много мне чувства и песен / И слез и мечтаний дано» (97). Гибель Офелии и ее песни как бы компенсируется последующим возможным их возрождением (и перерождением) в творчестве лирического «я» – поэта. Близкую метафору, ее реализацию (смерть песен на дне моря), а также сходную образность (смерти песен сопутствуют венки и цветы) находим в окончании цикла Гейне «Lyrisches Intermezzo» («Лирическое интермеццо») и раздела «Lieder» («Песни») из цикла «Junge Leiden» («Юношеские страдания»):
Mit Rosen, Zypressen und Flittergold
Möcht ich verzieren, lieblich und hold,
Dies Buch wie einen Totenschrein,
Und sargen meine Lieder hinein.
Итак, попытки Фета (и помогавшего ему Аполлона Григорьева) выстроить в сборнике несколько сверхстиховых единств, ориентированных на циклы Гейне, были довольно резко пресечены Тургеневым. Следует полагать, что в поползновениях Фета создавать циклы Тургенев усматривал одну лишь подражательность и не заметил авторских размышлений над принципами объединения разрозненных стихотворений в единое целое или не счел их существенными. По-видимому, с точки зрения Тургенева, стихотворения Фета, не объединенные между собой столь однозначными композиционными связями, оказываются более многозначными (ведь «легкая ирония» Фета, по замечанию Аполлона Григорьева, сильно отличается от язвительных сарказмов Гейне) и открытыми для интерпретаций. Кроме того, для Тургенева было очевидным, что, в отличие от лирического героя Гейне (объединяющего в единое целое не только стихотворения отдельных циклов, но и всю «Книгу песен»), лирический субъект Фета такими структурообразующими характеристиками не обладает. Эволюция Фета действительно демонстрирует почти полное равнодушие к хорошо продуманным циклическим единствам (хотя сам принцип распределения стихотворений по разделам поэт сохраняет и в последующих сборниках19). Исключение составляет лишь первый выпуск «Вечерних огней», составлявшийся, по свидетельству современников, совместно с Вл. Соловьевым.