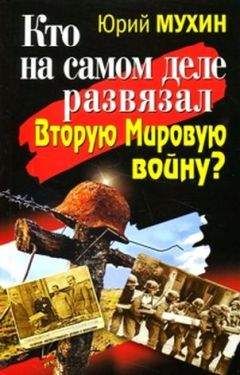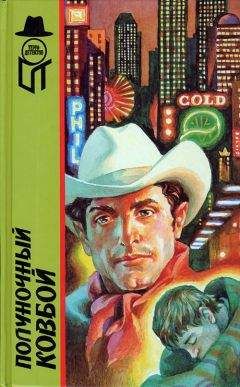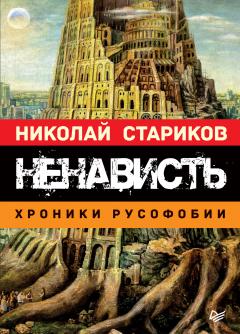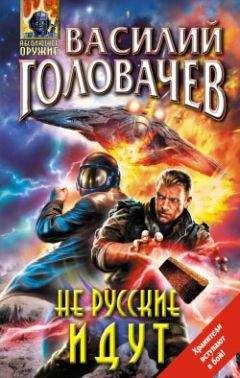Лев Вершинин - «Русские идут!» Почему боятся России?
Блудные дети
Есть вещи, изложить которые вкратце почти невозможно. А надо. Так вот, тяжелая и кровавая проблема армяно-турецких отношений, ставшая одной из воспаленных ран XX века, как ни странно, возникла относительно недавно. Христиане Османской империи, хоть и во второстепенном (если точно, то податном) статусе «райя», несколько веков подряд не имели особых (по крайней мере, земных) оснований для возмущения, вполне интегрировавшись в систему. Сосуществовали. Соблюдая некоторые правила, не подвергались и даже (греки на западе, армяне на востоке) пользовались уважением, занимая нужные и почтенные ниши, неосвоенные турками – пастухами, земледельцами и воинами. Обострение началось лишь тогда, когда веяния прогресса принесли на Восток новые идеи, воспринятые «новыми людьми». Подобное в те времена много где было – и в Италии, бунтовавшей против австрийцев, и в Венгрии, бунтовавшей против них же, и в Ирландии, бунтовавшей против англичан, и так далее. Армянские разночинцы, имеющие европейское образование, постепенно приходили к выводам, о которых вы, други, можете догадаться и без разъяснений. Правительство Порты, в свою очередь, воспринимало это как вызов, причем весьма опасный как для устоев общества, так и – после прецедента с потерей Греции – для существования государства, поскольку земли Западной Армении занимали едва ли не треть того, что считалось собственно Турцией.
Особую роль сыграло и оживление интереса к теме со стороны великих держав, уже на Берлинском конгрессе 1880 года поднявших «армянский вопрос» и озаботившихся статусом христиан в Османской Порте. В Константинополе тоже у руля стояли не дураки, в филантропию Лондона и Парижа верившие мало, и направление в восточные провинции английских консулов на предмет изучения проблемы, а тем паче документы по итогам поездки, требующие «обеспечить безопасность жизни и собственности армян», были восприняты властями Порты адекватно. Превращаться в колонию Турция, хоть и загнивающая вовсю, не хотела, «пятую колонну» (хотя тогда этого термина еще не существовало) терпеть внутри себя не намеревалась, а идти на какие-либо послабления считала (и в общем, вполне обоснованно) опасным. Отсюда первые репрессии. И – как противодействие действию – армянские националистические, часто с примесью социализма партии, в том числе весьма радикальный «Гнчак» и предельно радикальный «Дашнакцутюн», изо всех средств дискуссии верившие только в револьвер и бомбу. Впрочем, примерно то же самое происходило и на западе, в славянской Румелии, только происходящее на востоке было меньше заметно просвещенной Европе. О дальнейшем говорить нет нужды, да и не хочется. Достаточно сказать, что примерно с 1890 года и вплоть до Первой мировой войны на территории Западной Армении шла перманентная «гражданская» война, масштабами превосходящая нынешнюю войну с курдами, а в смысле применяемых сторонами методик борьбы, учитывая время и место, куда более страшная. Армянские газеты агитировали против «деспотизма», лидеры обивали пороги европейских министерств, компрометируя султана. «Партийные» боевики стреляли и взрывали, «беспартийные» партизаны-фидаи наводили «справедливый порядок» в сельской местности. Правительство отвечало огнем и железом, активно используя для усмирения страстей полудикие местные племена, в ответ на всей немалой территории Западной Армении возникали уже не отдельные отряды фидаев, а чуть ли не «армии самооброны», контролировавшие «освобожденные зоны», и тогда в дело вступали уже армейские части с артиллерией. А на всем этом красиво играли великие державы, укрепляя свое влияние в пораженной кризисом стране.
На этом фоне уезды Восточной (крохотной по сравнению с Западной) Армении, когда-то иранской, а с начала XIX века – российской, казались оазисом мира, едва ли не раем земным. Неудивительно, что армянские элиты, все более набирающие силу и вес в Империи, активно лоббировали в Петербурге оказание помощи «маленькому христианскому народу, изнывающему под игом». Не слишком, правда, успешно: имея опыт развития событий на Балканах, царское правительство – вполне справедливо, между прочим, – полагало, что Армения, буде ее освободить из-под оного ига, тотчас, как Болгария и Греция, уйдет из российской зоны влияния под лондонский и парижский зонтик. Тем более что центры «политической диаспоры» базировались как раз в «просвещенной Европе» и на «просвещенную Европу» в основном ориентировались. Армянскому делу сочувствовали, заступались, делали дипломатические демарши, но не более того. Вплоть до Первой мировой, когда в ходе победоносного наступления российских войск (при участии сформированных по указанию Петрограда армянских подразделений) от турок была освобождена практически вся Западная Армения и на освобожденных территориях начали формироваться органы самоуправления. К вящему огорчению местных мусульман, претензии к которым у армян были немалые и обоснованные. Прямым следствием этих событий и стал печально известный Геноцид армян, когда правившие Османской Империей младотурки, ребята совершенно нерелигиозные, зато предельно прагматичные, исходя из имеющихся реалий, выработали формулу «Армяне все до единого предатели, пока есть армяне, проблема никуда не денется, – и пусть нас проклянут потомки, но Турция будет жить». Писать об этом слишком страшно и противно. Затем настали тяжкие времена – отступление русских войск со многих позиций и уход вслед за ним масс армянского населения, опасающегося расправ за то, что, с какой бы симпатией к кому ни относись, с точки зрения, как ни крути, законных властей на всех языках называется «коллаборационизмом». Впрочем, сил отбить всю Западную Армению туркам не достало…
Безотцовщина
Как бы то ни было, эпоху великих потрясений, грянувшую в феврале 1917 года, именно армяне, вернее, их политически активная элита встретила – по сравнению с политической элитой других народов Кавказа – в, скажем так, наиболее подготовленном состоянии. Все тряслось, в хаосе краха Империи возникали, сменяя друг дружку, все новые и новые структуры местной власти – сперва ОЗАКОМ (Особый Закавказский Комитет), сформированный Временным правительством из «кавказских» депутатов Государственной Думы, затем, после октябрьских событий в Петрограде, Закавказский Комиссариат, созданный «снизу», местными партиями, на дух не переносящими большевиков, – однако первыми вопрос о возможности собственной национальной государственности поставил именно они, созвав еще в начале октября в Тифлисе армянский национальный съезд, делегаты которого (большинство, конечно, от Дашнакцутюн) избрали Армянский Национальный Совет, фактически политическое руководство населения населенных армянами регионов России.
Фронт тем временем рухнул. Армия, не зная, за что теперь воевать и надо ли воевать вообще, понемногу разлагалась, а в конечном итоге, заключив – фактически на уровне братания – «Ерзнкайское перемирие», полк за полком потянулась на север, бросая кровью завоеванные земли на произвол судьбы. С этого момента турецким силам в Западной Армении противостояли лишь несколько тысяч кавказских добровольцев, которым некуда было уходить. Сколько-то грузинских подразделений, сколько-то (совсем чуть-чуть) «татарских», но в основном, конечно, армянский корпус, сформированный еще при «старом режиме» – три дивизии, хотя и неполного состава, но хорошо вооруженные, обученные и руководимые опытными русскими офицерами под командованием талантливого царского генерала Фомы Назарбекова (в девичестве Назарбекяна). Там же служили и прославленные, популярные в массах «полевые командиры» федаев типа Дро и Андраника. По местным меркам, это была серьезная сила. Но плетью обуха, известное дело, не перешибешь. Так что, когда в середине февраля 1918 года турки, нарушив конвенцию, начали наступление, все, что смогли сделать армянские дивизии, – это отступать, на пределе сил цепляясь за каждый пригорок, чтобы хоть как-то прикрыть исход сотен тысяч беженцев, знающих, что их ждет под турками. В холоде, в голоде, в хаосе жертвы были огромны, да и резня началась знатная: турки не щадили никого, но и мусульманские селения, имевшие несчастье оказаться на пути отступающих, вырезались и выжигались дотла. Понятие «пленные» исчезло вместе со всеми остальными правилами «культурной» войны, и когда в середине марта, после падения Эрзерума, фронт, наконец, стабилизировался примерно на линии довоенной границы, Западная Армения была уже процентов на восемьдесят «Арменией без армян».
В обстановке, когда ни царя-батюшки, ни хотя бы Временного правительства уже не имелось, а большевикам в Питере было глубоко и искренне наплевать на «туземные» проблемы, Закавказскому сейму приходилось срочно, без подсказки искать ответ на проклятый вопрос «Что делать?». Мнения, естественно, разошлись. Азербайджанские мусаватисты полагали, что турки тоже люди, культурный европейский народ, и с ними вполне возможно договориться, так что надо объявлять независимость – и вперед. Грузинские меньшевики в принципе не видели в этой идее ничего плохого, но все-таки турок опасались. Дашнаки же, ясное дело, выступали против таких «опасных авантюр», справедливо возражая, что лучше объявить Закавказье автономией в составе России, и не более, поскольку это хоть как-то и хоть что-то гарантирует, а с «независимыми» у турок разговор будет коротким. Спорили круто, но фактор наличия армянского корпуса (ни у грузин, ни у «татар» ничего подобного пока не было) сыграл решающую роль, и принят в итоге был «армянский» проект: из состава России не выходить, но провозгласить «широкую автономию» и попробовать мириться с Портой «без аннексий и контрибуций». А если получится, то и выговорить уцелевшим западным армянам хоть какую-то автономию. И все бы хорошо, не будь у турок на сей счет особое мнение. Только что подписанная большевиками капитуляция в Бресте была для Порты нечаянным подарком Аллаха, воплощением самых смелых мечтаний: Россия вернула не только завоеванное в 1914—1915 годах, но и отказалась в их пользу от Батума, Карса и Ардагана, уйдя на рубеж 1877 года, а также признала армянский корпус «незаконным». В итоге делегация ЗакСейма, прибывшая в середине марта в Трапезунд договариваться, была встречена, мягко говоря, хамски: отказавшись что-либо обсуждать, ей барским тоном велели признать условия Брестского мира и ждать решения Стамбула. Когда же после жестокого, едва не перешедшего в драку спора в отеле, где разместились закавказцы, было решено принять турецкий ультиматум, выяснилось, что Порта, сверх всего, требует еще и немедленно объявить независимость Закавказья. То есть отказаться от последних, пусть и крайне зыбких надежд на возможность помощи извне. Речь шла уже о чем-то гораздо большем, нежели граница 1877 года, и Сейм, прервав переговоры, отозвал делегацию из Трапезунда, тем самым официально признав себя в состоянии войны с Оттоманской Портой (правда, фракция мусаватистов голосовала против отзыва, честно пояснив, что воевать с «братьями по вере» Азербайджан не станет).