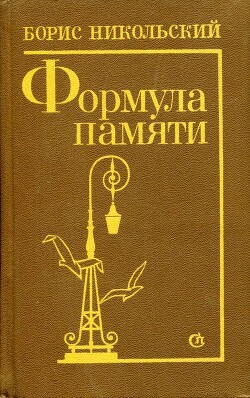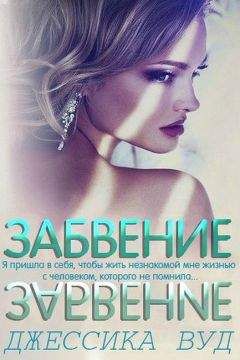Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй половины XX и начала XXI века - Борозняк Александр Иванович
Совместная комиссия координирует исследования и осуществляет совместные проекты, в том числе публикации комплексов документов из российских и германских архивов. Несколько проведенных комиссией коллоквиумов и дискуссий были посвящены проблематике Второй мировой войны и нацистской агрессии против СССР. Соответствующие материалы опубликованы на русском и немецком языках [1205]. Усилиями российских и немецких историков осуществляется выпуск уникального трехтомного пособия, предназначенного учителям и старшим школьникам наших стран. Вышел в свет том, посвященный судьбам России и Германии в XX в. [1206] В 2005 г. начал работу Германский исторический институт в Москве, который сразу стал притягательным центром для российских историков-германистов. Руководители института чрезвычайно много сделали для сотрудничества ученых наших стран: это и директор-основатель Бернд Бонвеч, и нынешний директор Николаус Катцер.
Впереди большая и сложная работа по подготовке трудов по истории России и Германии, истории нацистского рейха и Второй мировой войны [1207].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТ «ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОШЛОГО»
К «КУЛЬТУРЕ ПАМЯТИ»
В городке, из которого смерть расползалась
по школьной карте,
мостовая блестит, как чешуя на карпе,
на столетнем каштане оплывают тугие свечи,
и чугунный лев скучает по пылкой речи…
Вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно,
но никто не сходит больше у стадиона [1208].
В поэтическом фрагменте Бродского безошибочно угадывается Нюрнберг, на юго-западной окраине которого по приказу Гитлера в 1935 г. начал строиться (и не был завершен) нелепо грандиозный комплекс площадей и сооружений, где проходили — именуемые «имперскими партсъездами» — сборища нацистов. Трибуны гигантского плаца вмещали 70 тысяч зрителей, а на поле одновременно могло находиться и двигаться около 300 тысяч участников парада. Полуразрушенный недостроенный монстр и — совсем рядом — старый Нюрнберг, город Альбрехта Дюрера и мейстерзингеров…
Муза русского поэта коснулась своим крылом больной, невыразимо сложной и первостепенно важной для немцев проблемы — преодоления прошлого. За безмятежной ухоженностью преуспевающего немецкого города, за отдраенными до кухонного блеска булыжниками, за роскошью цветущих каштанов художник угадывает глубинный конфликт двух начал германской национальной истории. Конфликт двух систем исторического времени: эпохи кровавой диктатуры, начинавшейся с речей перед экзальтированными толпами на стадионах, и эпохи нынешней (все еще послевоенной), в рамках которой оказываются противоестественно совместимыми забвение и память, тоска по фальшивому величию национал-социализма и неприятие позора Третьего рейха.
Читатель, должно быть, помнит эпизод, открывавший первую главу этой книги: крематорий в Дахау, начало мая 1945 г., немцы закрывают глаза на кровавое прошлое, отворачиваются от него. А в феврале и марте 1997 г. в Мюнхене, на развернутой там выставке о преступлениях вермахта, немцы пристально вглядывались в прошлое… Два состояния общественного сознания, отделенные пятью с небольшим десятками лет. И место действия почти идентично: от старой мюнхенской ратуши, где размещалась экспозиция, до бывшего концлагеря Дахау за какие-нибудь три четверти часа можно добраться городским транспортом…
Структура исторической памяти остается в ФРГ по-прежнему двойственной, и это нашло яркое выражение в словах писателя Вальтера Йенса (1923–2013): «В нашей стране проспекты в больших городах носят имя Гинденбурга, и только в каком-нибудь предместье мы отыщем переулок Курта Тухольского. В нашей стране нехотя сочли возможным назвать один университет в честь эмигранта Генриха Гейне, еврея умершего в изгнании, а другой — в честь замученного в концлагере Карла фон Осецкого» [1209]. Историческое сознание ФРГ не раз оказывалось на заминированной тропе, ведущей к так называемой нормализации фашистского периода. Никто в Федеративной Республике, как правило, не указывал историкам, о чем им следует говорить, а о чем молчать, отсутствовали предписанные государством модели прошлого, не было и, очевидно, не будет идеологического управления наукой. Но в германском обществе существовала (и существует) постоянная тяга к «подведению черты под прошлым», что порой достаточно легко переходит в его оправдание. В последние годы на книжном рынке появилось несколько изданий, вновь убеждающих читателей в «благотворности забвения нежелательного прошлого» [1210].
Больная и недосказанная тема истории Германии 1933–1945 гг. обладает эффектом обратной перспективы. Герман Люббе с некоторым удивлением признавал три десятилетия назад: «Тени прошлого удлинялись по мере того, как события Третьего рейха уходили за горизонт времени» [1211]. Томас Манн еще в 1933 г. пророчески писал: «Смысл и цель национал-социалистической государственной системы состоит единственно в одном: путем беспощадного насилия, надругательства, истребления всякого поползновения, воспринимаемого как помеха, держать в форме немецкий народ для “грядущей войны”» [1212]. Но сколько десятилетий понадобилось немцам, чтобы постичь эту истину?
Не сразу и не простыми путями достигли немецкие ученые разных поколений современного уровня понимания истории гитлеровской диктатуры. Придерживаясь зачастую несхожих политических убеждений, возвращаясь к уже решенным как будто вопросам, к пересмотру тезисов, казавшихся аксиомами, исследователи пришли к выводам, в которых явственно слышится голос вины и совести, к выводам, которые базируются не на абстрактных декларациях, а на тщательном изучении источников, на результатах многолетних дискуссий.
И хотя извлечение уроков из нацистского прошлого, как утверждает Юрген Хабермас, «на Востоке Германии произошло поверхностно, а на Западе страны с громадным отставанием» [1213], мы все же можем назвать это свершение значимой победой независимой гуманитарной мысли.
В Федеративной Республике в течение полувека сложилась модель многомерного исторического объяснения нацистского прошлого, модель, основанная, отмечал Ганс-Ульрих Велер, как на моральном неприятии гитлеризма, так и на «известном согласовании конкурирующих интерпретаций», на «убедительном синтезе результатов исследований». Необходим, по мнению Велера, «исторический синтез», иначе вакуум будет заполнен «популярно-научным суррогатом» [1214]. Опыт показал, что исследование проблематики тоталитарного Третьего рейха может происходить только в условиях дискурса, только в атмосфере взаимоотталкивания и взаимообогащения научных школ, в условиях разномыслия и свободного обмена мнениями, рождения научных гипотез, их подтверждения и опровержения.
Решающий прогресс в деле преодоления нацистского прошлого в ФРГ был достигнут, как мне представляется, в пограничной зоне между историческим знанием и массовым историческим сознанием. Разворачивались дебаты, далеко выходившие за стены академического и университетского цехов, будоражившие общество, прямо влиявшие на направленность и характер исторических исследований, на их новую оптику. В ходе споров неизменно ставились (каждый раз уже на ином уровне) «проклятые вопросы» — о национальной вине и национальной ответственности.
Дискуссии, указывал Вольфганг Айхведе, «причиняют боль и должны причинять боль, ведь они напоминают о страданиях, раскрывают раны», ведь «история страны, принесшей столько горя другим народам, а также и собственному народу, не может восприниматься равнодушно». Каков же итог споров об исторических уроках фашистского режима в Германии? Айхведе так отвечает на этот вопрос: «Через 50 лет после Первой мировой войны книга Фрица Фишера “Рывок к мировому господству” изменила наше историческое сознание. Через 50 лет после окончания Второй мировой войны развертывается открытая дискуссия, в ходе которой становится ясно, что организаторами и участниками массовых убийств были многие рядовые немцы. Понадобилось полвека, понадобилась смена двух поколений для того, чтобы освободиться от мифов и отыскать новые измерения для постижения нашей собственной истории» [1215].
![Владимир Рыбин - Включите вашу память [=Если разбудить память]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)