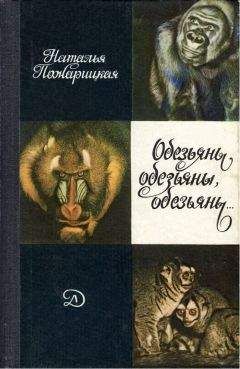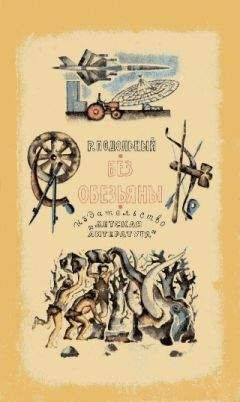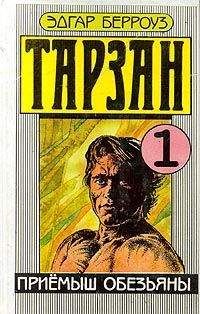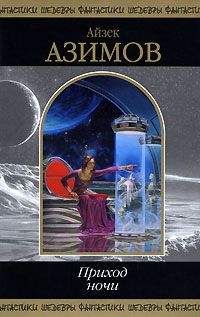Николай Данилевский - Россия и Европа
Выкупается ли она богатыми проявлениями других сторон человеческой цивилизации? И на это придется отвечать отрицательно. Один из народов, принявших ислам, первоначальный распространитель его, отличался, правда, любовью к науке и просвещению. Но что же, однако, произвел он? Он сохранил в переводе, большею частью искаженном, некоторые творения греческих философов и ученых, но они гораздо лучше и полнее сохранились бы, если бы страны, отвоеванные арабами, продолжали составлять часть Греческой империи. Арабы сообщили также Европе некоторые открытия и изобретения Китая и Индии, но и в этом отношении заслугаих имеет совершенно отрицательный характер. Заняв промежуточные страны, сделав их недоступными европейцам, они составили преграду не столь непреодолимую, завесу не столь непроницаемую, как, вероятно, сделали бы это племена монгольские или татарские. Но ежели бы эти страны, отделяющие Запад от Крайнего Востока, хранившего плоды древнейшей культуры, продолжали быть седалищем христианства и греческой образованности, хотя и склонявшейся уже к своему упадку,- не сделала ли бы, по всем вероятностям, того же самого торговая предприимчивость Венеции, Генуи и других итальянских республик?
Что касается искусства, то религия Магомета была прямо ему враждебна. Только в архитектуре представили магометанские народы изящные образцы. Но неужели мечети Каира и Дамаска, узорчатые мраморы Альгамбры[6] заключают в себе истинный смысл и значение магометанского движения, выкупают собой реки пролитой им крови, груды пепла, развалин и вековое варварство, которыми оно ознаменовалось? Удовлетворился ли бы наш ум, если бы результаты наплыва варваров на образованные страны греко-римского мира ограничивались готическими соборами, зубчатыми стенами и башнями средневековых замков?
Сколько бы мы ни искали, мы не отыщем оправдания магометанства во внутренних, культурных результатах сообщенного им движения. С этой точки зрения оно всегда будет представляться загадочным, непонятным шагом истории. Не находя, таким образом, оправдания этому историческому явлению в его положительных, самостоятельных результатах, приходится отыскивать его во внешних, служебных отношениях к чужим, посторонним целям. И действительно, мы видим, что общий существеннейший результат всей истории магометанства состоит в отпоре, данном им стремлению германо-романского мира на Восток,- стремлению, которое еще до сих пор живо в народах Европы и которое составляет необходимую принадлежность той экспансивной силы, того естественного честолюбия, которым бывает одарен всякий живучий культурно-исторический тип, необходимо стремящийся наложить печать свою на все его окружающее. Это честолюбие привело греков на берега Инда и на устье Днепра, Дона и Кубани. Оно вело и римские орлы на берега Атлантического океана и в месопотамскую равнину, в леса Германии и нумидийские степи.
Общая идея, существенный смысл магометанства заключается, следовательно, в той невольной и бессознательной услуге, которую оно оказало православию и славянству, оградив первое от напора латинства, спасши второе от поглощения его романо-германством в то время, когда прямые и естественные защитники их лежали на одре дряхлости или в пеленках детства. Совершило оно это, конечно, бессознательно, но тем не менее совершило - и тем сохранило зародыш новой жизни, нового типа развития, сохранило еще одну черту разнообразия в общей жизни человечества, которым, казалось, предстояло быть задавленными и заглушенными могучим ростом романо-германской Европы. Эту мысль, собственно, относительно православия выразил (в начале греческого восстания[7]) константинопольский патриарх Анфимий: "Провидение избрало владычество османов для замещения поколебавшейся в православии Византийской империи[8] (собственно, надо бы сказать императорства) как защиту против западной ереси".
Мысль эта кажется дикою немецкому историку Гервинусу, у которого я заимствовал этот факт, но она глубоко истинна. Представим себе, что Иерусалим и все святые места присоединены усилиями крестоносцев к духовным владениям пап,- что с севера, с запада, юга и востока западные феодальные государства окружают постепенно тающее ядро Византийской империи. Что сталось бы с православием, загнанным на северо-восток, перед блеском католицизма, усиленного и прославленного господством над местами, где зародилось христианство? Оно казалось бы не более как одною из архаических сект христианства, вроде несторианства и разных остатков монофизитства и монофилитства, доселе существующих на Востоке. Что сталось бы также со славянством? Славяне Балканского полуострова не подверглись ли бы той же участи, которая сделалась уделом славян, подпавшим под владычество Германии? Могли ли бы сербы и болгары устоять против одновременно направленного на них политического гнета, религиозного гонения и житейского, бытового соблазна европейской культуры? Результат не может быть сомнителен.
Та же участь, которая угрожала православию, постигла бы и славянство. И оно, охраняемое горными трущобами или негостеприимною природою Севера, представляло бы лишь материал для этнографических этюдов, как исчезающие племена басков в Пиренеях или гельских народов в горах Шотландии и Валийского княжества. Судьба самой России, отовсюду окруженной (не только с запада, но и с юга) разливом романо-германской силы, не изменилась ли бы совершенно? А если бы часть ее и сохранила политическую независимость, что представляла бы она собою в мире? Какого знамени была бы носительницей? Все грозное значение России заключается в том, что она - прибежище и якорь спасения пригнетенного, но не раздавленного, не упраздненного обширного славянского мира. Без этого она была бы каким-то привидением прошедшего, вторгнувшимся из областей теней в мир живых, и, чтобы сделаться участницею в его жизни, ей действительно ничего бы не оставалось, как сбросить скорее с себя свой славянский облик. Это было бы существование без смысла и значения, следовательно, в сущности существование невозможное.
Придаваемое здесь магометанству значение может показаться неверным, потому что самая мысль о завоевании Иерусалима была возбуждена в народах Европы именно тем, что эти священные для христианства места подпали под иго мусульман. Но, если бы этого и не было, разве можно сомневаться, что завоевательный дух католицизма не оставил бы дряхлеющей Византии в спокойном обладании ими,- особенно после того, как собственная сила и значение его были потрясены Реформацией? Не видим ли мы ряда непрестанных домогательств папства подчинить себе Восток? Уния, постигшая русский народ под владычеством Польши[9], не составляет ли указания на участь, предстоявшую и прочим православным народам, если бы османская гроза не заставила Европу трепетать засобственную свою судьбу? Разве честолюбие и политическое искусство венецианской аристократии и Габсбургской династии были бы сдержаннее ввиду предстоящей добычи в странах балканских, придунайских и на прибрежье Эгейского моря, нежели честолюбие рыцарей, на пятьдесят лет овладевших босфорской столицей[10]?
Магометанство, наложив свою леденящую руку на народы Балканского полуострова, заморив в них развитие жизни, предохранило их, однако же, излиянною на них чашей бедствий от угрожавшего им духовного зла - от потери нравственной народной самобытности. И это влияние не ограничилось народами, подпавшими турецкому игу. Пограничные с ним южные славяне обязаны сохранением своей народной и бытовой самостоятельности той вековой борьбе, которую они вели как для собственной охраны, так и для охраны Германской империи против могущества османов. Когда они составляли главную плотину против турецкого разлива, грозившего поглотить наследственные земли Австрийского дома, было ли время думать об их онемеченье, составлявшем никогда нетеряемую из виду задачу всех немецких марк[11] или украин?
Отношение Европы к туркам никогда не было бескорыстно. Как теперь, так и за пять веков видела она в оттоманском могуществе средство распространить свою власть и влияние на народы греческого и славянского православного мира. Как сатана-соблазнитель, говорила она одряхлевшей Византии: "Видишь ли царство сие, пади и поклонись мне, и все будет твое". Ввиду грозы Магомета собирала она Флорентийский собор[12] и соглашалась протянуть руку помощи погибавшему не иначе как под условием отказа от его духовного сокровища - отречения от православия. Дряхлая Византия показала миру невиданный пример духовного героизма. Она предпочла политическую смерть и все ужасы варварского нашествия измене веры, ценою которой предлагалось спасение. Это же понятие о значении турецкого погрома жило и в сердце сербского народа. В эпическом сказании о битве на Косовом поле[13]повествуется о видении князя Лазаря, которому предлагается выбор между земным венцом и победою и между венцом небесным, купленным ценою смерти и поражения. Инстинктивно-пророческий дух народной поэзии как бы видел в победе над оттоманскою силою потерю духовной самобытности народа. И поныне предпочитают славяне Турции тяжелое мусульманское ярмо - цивилизованному владычеству Австрии.