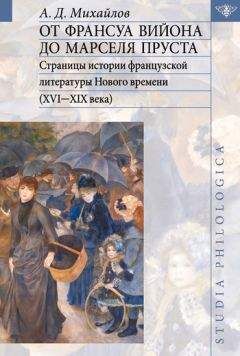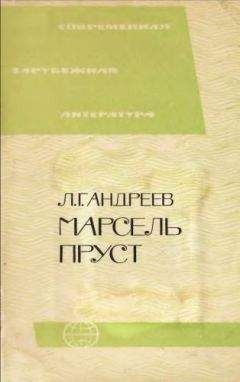Андрей Михайлов - От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том I
Следующим этапом, который не замедлил наступить, было создание произведений на современном материале. Логичность и быстрота этого перехода понятны: ведь история в новой прозе, как и в современной ей трагедии, была лишь перифразой современности. В новых повести и новелле в жизни современников обнаруживались уже не грубый фарс, как в плутовском романе, а высокий трагизм, не низменные побуждения, а возвышенные устремления, но не оторванные от действительности, как в романе прециозном, а продиктованные ею. Возникали далекие предпосылки романа психологического.
Это не значит, конечно, что барочный роман отделен он нового непроходимой гранью; поэтика прециозного романа не была изжита до конца. Происходило в известной мере сближение прециозной прозы и классицизма (который и сам вступил в новую фазу своего развития, не без основания названную «классицизмом трагическим»[446]): последний, наследуя у барочного романа галантные сюжеты, не только привязывал их к реальной действительности, но и привносил в них некоторую рассудочность, чувство меры и хороший вкус, в какой-то степени стремление к единству места, времени и действия, композиционную четкость и логичность, декартовский принцип «расчленения трудностей», выделение в описываемом статичном характере одной ведущей черты, одной страсти.
Следует заметить, что интерес к характерам и страстям, к портрету, внешнему и внутреннему, психологическому, свидетельствуя о постепенном распадении галантно-прециозного сознания, весьма типичен вообще для французской литературы 60-х годов: портрет, характер, увиденные «извне», насыщают произведения писателей-моралистов, прежде всего Ларошфуко, – которого вряд ли следует выводить за рамки классицизма (как это иногда делают[447]), увиденные «изнутри», переполняют бурно развивающуюся в эти годы эпистолографию (г-жа де Севинье, Бюсси-Рабютен и др.).
Как и в барочном романе, в новой прозе центральное место уделялось любовным переживаниям. Но нельзя не констатировать коренного изменения трактовки любви. Дело не только в том, что, перестав быть изящной пасторалью, любовь стала реальной и серьезной. Теперь она рисуется в трагических тонах, как чувство незаконное и преступное, которым не наслаждаются, а которое стремятся побороть. Отныне любовь приносит не радость, а мучения. Трагические метания между мужем и любовником с особой силой запечатлены в «Принцессе Клевской»; в «Португальских письмах» мотив запретности, греховности любви сгущен до предела и как бы вынесен за скобки. Причины этого – композиционные, а не мировоззренческие, как иногда пытаются доказать, настаивая на «особости» года появления «Писем»[448].
К. Авлин полагает, что это якобы был момент исключительной гармонии государственной власти и общественных интересов, момент небывалого равновесия и стабильности. Страна получила наконец желанный мир[449], были прекращены церковные споры[450], ослаблена цензура (в этот год Мольер поставил «Тартюфа»). Однако эти стабильность и гармония оказались мнимыми; французские полки вскоре снова двинулись в новые походы, народные бунты вновь сотрясли страну, а недолгое прекращение споров с янсенистами не устранило глубокого церковного раскола.
1669 год лишен исключительности и с точки зрения литературы. Этот, по словам Сент-Бева, «неповторимый год» мало чем отличался от предыдущего, когда были созданы «Жорж Данден» и «Скупой» Мольера, «Сутяги» Расина, когда Лафонтен начал печатать свои басни. В 1669 г. значительны и симптоматичны лишь его начало и его конец: в январе появляются «Португальские письма», в декабре Расин ставит «Британника»[451]. Все остальное менее важно: Лафонтен выпускает галантный роман «Любовь Психеи и Купидона», Мольер представляет «Господина де Пурсоньяка», Боссюэ произносит первое надгробное слово, г-жа де Вилльдье печатает «Любовный дневник». Далее идут уже совсем одни посредственности – Донно де Визе, Демаре де Сен-Сорлен, Буайе, Бурсо...
Причины ошеломляющего успеха «Португальских писем» и их историко-литературное значение – не в новости их содержания: скорбные жалобы покинутой возлюбленной звучат и в гениальных «Героидах» Овидия, и в печальной «Элегии мадонны Фьямметты» Боккаччо, и в маленьком, но весьма примечательном романе Элизены де Крен «Тяжелые страдания, проистекающие от любви» (1538). Все эти произведения не без основания считаются предшественниками нашей книги[452]. Значение «Португальских писем» – в их форме, точнее в ее разработке.
Маленькая книжечка, изданная в январе 1669 г. Клодом Барбеном, включала пять страстных любовных писем, искренних и наивных. XVII столетие во Франции было классическим веком эпистолографии; именно тогда сложились ее устойчивые традиции. К 60-м годам уже были изданы сборники писем Геза де Бальзака (1624) и Вуатюра (1647); письма входили в моду, их не только писали и читали, в одиночку и публично, в салонах, их разыскивали, переписывали, собирали в сборники. Этот повышенный интерес к письмам отражал, конечно, не «почти полное отсутствие периодической печати»[453], а осознание жесткой условности существующих литературных жанров и попытку ее преодоления. Письма становились литературой; не теряя характера документа, они приобретали эстетическую ценность. Частные письма расшатывали ритуальность и этикетность характерообразующих принципов в литературе. Но очень скоро начался обратный процесс – начал вырабатываться классический эпистолярный канон. У него были свои теоретики и последовательные практики. «Португальские письма» созданы с учетом предшествующего эпистолярного опыта, но вне его традиций.
В «Португальских письмах» нет непринужденной светской болтовни, пересказа салонных сплетен, изящного остроумия. Все в них сконцентрировано на одном – на несчастной любви бедной Марианы. Эпистолография здесь тяготеет к беллетристике, ибо маленькая книжка – всего пять не очень длинных писем – имела внутреннюю завязку, развитие, кульминацию и развязку, но вне сюжетных мотивировок. Такое построение книги решительно противопоставляло ее обычным сборникам писем. Это – как бы первая ступень «остранения».
Но «Португальские письма» были написаны не светской дамой или салонным острословом, а искренней в своей страсти и наивной в своей откровенности монахиней; ее горькие стоны раздавались из-за стен монастыря. В этом – вторая ступень «остранения»: признания скромной монахини, кажущаяся хаотичность которых иногда даже расценивалась как «барочная», сообщали книге достоверность документа, а любовной драме Марианы – небывалую остроту.
Ко всему прочему Мариана – португалка[454], т. е., по понятиям французов XVII в., представительница южной, достаточно экзотической страны, где страсти более пылки, более естественны, менее стеснены жесткими рамками общественных приличий, менее этикетны. Эта третья ступень «остранения» была одной из первых во французской литературе попыток введения «местного колорита» как мотивирующего характеры приема (что стало более широко применяться во времена Вольтера и сделалось едва ли не основным принципом романтизма).
Все в «Португальских письмах», и прежде всего отсутствие запутанной интриги, событий, вообще связного рассказа, призвано было создать впечатление подлинности, достоверности этих человеческих документов. При всем многообразии оттенков переживаний, героиней владеет одна страсть; мастерство автора «Писем» и состояло в раскрытии побуждений и стремлений этой страсти в ее противоречивости, непоследовательности и одновременно необоримой цельности. «Эмоциональная взволнованность сестры Марианы, – писал В. М. Жирмунский, – ее душевная противоречивость, соединение в одном переживании всех радостей и всех страданий, потеря себя в переживании – вот черты нового чувства жизни, которые делают португальскую монахиню первой в длинном ряде страстных и страдающих любовниц»[455].
В первом письме Мариана восклицает: «Я хочу быть отныне чувствительна только лишь к страданиям». Отныне... Все, что было раньше, – его появление, знакомство, ухаживание, ее увлечение, скоро переросшее в страсть, затем дни, казалось бы, полного счастья, – все это устранено из рассказа как мешающая событийность. Внешних событий в «Португальских письмах» почти нет. Есть жизнь сердца в момент напряженный и трагический. И начинается книга не с «начала», о котором читатель узнает постепенно, из мелких деталей, проскальзывающих среди жалоб покинутой, а, скорее, с «конца». Ощущение ушедшего счастья, любви, жизни пронизывает все пять писем Марианы. Тем не менее, любовное чувство героини претерпевает – от письма к письму – известное развитие. Пять писем, пять оттенков, пять тональностей при основной доминанте – любви, осветившей душу героини, ее изменившей и в конечном итоге ставшей единственным лейтмотивом существования.