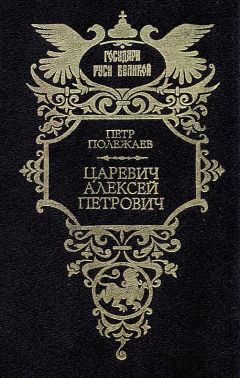Елена Никулина - Повседневная жизнь тайной канцелярии XVIII века
Под подозрением оказалась даже французская католическая церковь в Москве. Московский губернатор Лопухин в 1793 году писал главнокомандующему Москвы Прозоровскому, что эта церковь не внушает ему никакого доверия, так как «ходят в оную весьма мало, и то, по-видимому, не для мольбы, а для разговоров».
Однако и в конце столетия Тайная экспедиция хотя и вела дела попавшихся шпионов, но сама по-прежнему не обладала ни опытом, ни кадрами для их выявления: как правило, они были уличены бдительными подчиненными (как Тотлебен), выданы знакомыми (как Монтегю, показания на которого дал «господин Жерар», состоявший при А. А. Безбородко) либо информация о них была получена по дипломатическим каналам или благодаря вскрытию переписки. В России за письма отвечал почт-директор, еженедельно представлявший императрице отчет с наиболее интересными выдержками из перлюстрированной корреспонденции. Однако наступившая эпоха революционных войн и потрясений показала, что прежние методы тайного сыска уже устарели, и настоящую контрразведывательную службу необходимо было создавать заново.
У истоков отечественной цензуры
Век Просвещения с его политическими и культурными новациями (в том числе появлением периодики и массового книгопечатания) породил целый ряд проблем, которые власть будет решать на протяжении последующих трехсот лет.
В 1731 году жена подполковника Авдотья Вишневская заехала в гости к полковнице Веревкиной в местечко на Полтавщине. Среди прочих новостей сплетницы обсудили и невесть как оказавшийся у Веревкиной перевод с некоего печатного «листа» или изданной на территории Речи Посполитой «газеты», в которой два чудесно явившихся «мужа» предсказали будущие потрясения: в 1733 году Константинополь ждало разорение; в 1736-м должна была «погибнуть Африка», а в 1737 году – «антихрист имеет притти на землю» с последующим в 1739 году Страшным судом.
Предсказание передавалось из рук в руки до тех пор, пока не стало известно генерал-губернатору, доложившему о нем самому Ушакову. В ходе следствия были выявлены по цепочке все распространители злополучного «листа». Крайним оказался монах Троицкого Густынского монастыря, сумевший скрыться, после чего следствие в 1734 году было прекращено, а арестованные читатели отпущены.[564]
В начале очередной войны с Турцией в 1736 году возникло дело о «султанском письме»: пойманный на краже подьячий Петр Максимов заявил «слово и дело» на схватившего его постойного солдата, указав, что у того есть письмо, «писанное от салтана турецкого». Найденный текст содержал угрозы «разорить» христиан, а их священников «псам на съедение отдать». Тайная контора немедленно начала выискивать источник распространения пасквиля. Под стражу были взяты девять человек, но и в этом случае следствие уперлось в тупик: ямщик Иван Красносельцев получил письмо от «неведомого человека». Впрочем, злодейского умысла здесь не оказалось: письмо (действительное или литературный вымысел) адресовалось султаном Махмедом австрийскому «Леопанде цесарю» – императору Священной Римской империи Леопольду I (1658–1705), много воевавшему с турками… на полвека раньше. Посему все задержанные были отпущены с вразумлением батогами за неподходящее чтение.[565]
После дворцового переворота 1741 года правительство Елизаветы решило «вычеркнуть» из истории всю информацию о ее венценосном предшественнике. Изымались из обращения монеты с изображением Ивана Антоновича, публично сжигались печатные листы с присягой ему; с 1743 года началось систематическое изъятие прочих официальных документов с упоминанием свергнутого императора и правительницы Анны Леопольдовны – манифестов, указов, церковных книг, паспортов, жалованных грамот.[566] Поскольку уничтожить годовую документацию всех государственных учреждений не представлялось возможным, то целые комплексы дел передавались на особое хранение в Сенат и Тайную канцелярию; ссылки на них давались без упоминания имен, а при необходимости обходились термином: «известная особа». Наследник Елизаветы Петр III после вступления на престол повелел после снятия необходимых копий уничтожить все дела «с известным титулом», но очередной переворот не позволил выполнить это распоряжение.
Только при Екатерине II Иван Антонович стал официально упоминаться, но не в качестве императора, а как «принц Иоанн».
С 1742 года держать у себя документы, монеты и другие артефакты с титулом и изображением Ивана Антоновича стало опасным – теперь это считалось преступлением, называемым в документах сыска «хранение на дому запрещенных указов, манифестов и протчего тому подобного». За него в 1755 году отставной асессор Михаил Семенов был сослан «в его деревни до кончины живота его никуда неисходно». В 1747 году пытали в застенке и сослали в Оренбург на вечное житье пуговичного подмастерья Каспера Шраде, в чьем бауле при таможенном досмотре в Нарве нашли пять монет с профилем Ивана Антоновича. В следующем году целовальник Недопекин поплатился за невнимательность – был взят в Тайную канцелярию за то, что при пересчете доставленных им из Пскова для сдачи в Соляное комиссарство двух бочек денег среди 3 899 рублевиков был обнаружен один с изображением Ивана Антоновича.[567]
С появлением прессы высочайший контроль прежде всего был направлен на публичные извещения о событиях при дворе. Академия наук в 1742 году получила выговор за сообщение в «Санкт-Петербургских ведомостях» о приеме во дворце «грузинских принцесс». В 1751 году сама Елизавета возмутилась публикацией о том, что она весь день «изволила забавляться псовою охотою».[568] Даже стремление к историческим знаниям могло быть истолковано в качестве угрозы государственной безопасности. Так, в 1760 году дворовый человек Степан Титов донес, что к его господину являлись сенатские канцеляристы из комиссии «о разборе императорских указов», продававшие ему тексты указов и письма Анны Иоанновны, Петра I, царевича Алексея, фельдмаршалов А. Д. Меншикова и Б. П. Шереметева, а также различные «трактаты», «шифры», «походные журналы».
Покупателем документов являлся Петр Никифорович Крекшин (1684–1763) – один из первых русских исследователей генеалогии. При Петре I он служил смотрителем работ на строительстве Кронштадта, был обвинен в растрате казенных денег, разжалован, но затем оправдан и назначен на должность комиссара для принятия казенных вещей по подрядам. В 1726 году Крекшин вышел в отставку и занялся изучением русской истории, для чего стал собирать все доступные ему материалы о петровском царствовании. В 1742 году он представил Елизавете Петровне первый том «Краткого описания блаженных дел великого государя-императора Петра Великого, самодержца Всероссийского» и получил разрешение пользоваться документами Кабинета Петра I и другими документами архивов. Историю деятельности Петра I исследователь освещал в «Журналах великославных дел великого государя-императора Петра Великого», которых, по его задумке, должно было выйти 45 томов – по числу лет царствования Петра I – с подробным, день за днем, изложением событий. Неутомимый Крекшин спорил с Г. Ф. Миллером и М. В. Ломоносовым (в 1750 году) по поводу происхождения Руси, составил «Родословную книгу разных фамилий российских дворян». Комиссар собрал немалое количество актов, в том числе рассредоточенных по разным местам бумаг Меншикова; но при этом он не стеснялся вставлять в свои сочинения вымышленные сведения. Он привлек внимание Тайной канцелярии – доноситель указал, что его хозяин приобрел у нелюбопытных, но корыстных чиновников столько документов, что набралось 30 переплетенных «книг». Но, кажется, следствие так и не началось: в мае 1760 года престарелый Крекшин был «взят» в Сенат и более по Тайной канцелярии не числился.[569]
К тому времени стали ощутимы другие последствия Петровских реформ – за сравнительно спокойные 1740-1750-е годы выросло поколение более просвещенных и независимых дворян, чем их отцы во времена «бироновщины». Исчез «рабский страх перед двором», подданные «отваживались публично и без всякого опасения говорить и судить, и рядить все дела и поступки государевы»,[570] что отмечали многие современники – армейский офицер Андрей Болотов, пастор Бюшинг, аристократка Екатерина Дашкова и иностранные дипломаты. Современные исследования позволяют говорить даже об особом «культурно-психологическом типе» елизаветинской эпохи. Историки российского Просвещения констатируют своеобразный «книжный бум» на рубеже 50-60-х годов XVIII столетия, когда подросли новые дворяне-читатели, получившие уже иное образование.[571] Но эта ситуация рано или поздно должна была породить опасные – по крайней мере нежелательные для власти – мысли и возможности их публичного выражения.