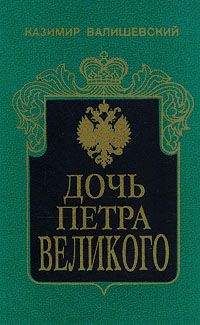Лев Анисов - Иезуитский крест Великого Петра
— Вы этого хотите?
Вздохнув и крепко сжав губы, Анна Леопольдовна поднялась с кресла, давая понять, что аудиенция кончена.
Линар резко загородил ей дорогу и, как в прежние годы, хотел было обнять ее, прижать к себе. Но прежней Анны, влюбленными глазами смотрящей на него, не увидел. На него смотрела гордая, строгая женщина.
— Прошу вас, прошу лишь об одном. Выслушайте, и мы расстанемся. Я ни разу не заговорю о былом. Но я должен, должен исповедаться перед вами. Я понимаю, вы замужем, у вас ребенок, у вас иная жизнь. Но у меня… Я живу своим прошлым. У меня перед глазами та дивная, доверчивая девушка, которая чистотой своего сердца, теплом своим пробудила во мне самые светлые чувства и которая стала для меня самым дорогим существом на свете. Помните, помните, вы плакали на могиле вашей матушки. Плакал и я. Я не знал ее, но я благодарил Бога за то, что она жила на этом свете, что родила вас. Я и теперь с теплотой вспоминаю ее святое имя. Ничего не воротить, не изменить, но относиться свято к прошлому запретить невозможно, — он внимательно посмотрел ей в глаза.
— Я изменилась? — неожиданно спросила она.
— Нет, нет. Вы так же красивы и так же добры. Я не верю в перемены характеров. — Линар замолчал.
Неожиданно, не говоря ни слова, Анна Леопольдовна возвратилась к креслу и жестом пригласила Линара присесть рядом.
— А я много думала, что изменилась последние годы, — призналась она и задумчиво посмотрела мимо Линара. Лукавить она не могла, этот человек оставался ей дорог. Но, робкая от природы, она смущена была тем оборотом, какой так неожиданно принял начатый с ним разговор. Интуиция подсказывала ей, слова его искренни, но сдержанностью своею она показывала ему, что он в объяснениях при первой встрече заходит слишком далеко. Но чувство признательности обязывало ее быть более сердечной к нему и, кроме того, слова, произносимые им, голос его пробуждали кажущиеся уснувшими чувства. Легкое волнение испытывала она, вглядываясь в его лицо и узнавая дорогие черты. — Вы ошиблись бы, полагая, что величие и слава могли изменить меня… Действительно, мне удалось сделать то, чего от меня вовсе не ожидали, и этим я показала, как обманывались те, которые считали меня способной на то только, чтобы продолжать потомство светлейшего брауншвейгского дома…
— Ваш супруг… — начал было Линар.
Но она довольно резко оборвала его.
— Не будем говорить об этом. Вы прекрасно осведомлены о положении дел, и я помню, как вы отзывались о моем супруге в письме к Бирону, всячески компрометируя его, дабы расстроить наш брак. Не надо, — более тихо добавила она. — Скажу вам одно, теперь я более свободна, чем прежде.
Оба помолчали.
Она вдруг улыбнулась и спросила заинтересованно:
— Все же, где вы были эти годы?
— В Италии, на родине моих предков. Признаюсь, горжусь, что во мне течет итальянская кровь.
— А мне трудно сказать, кто я… По матери — русская, а по отцу…
— Благословение Божие видно в крови и фамилии вашей. Род ваш идет от королей Вандальских, от которых происходил Прибыслав второй, последний король Вандальский, но первый принц верою Христовою просиявший. По отцу вы — славянка.
Анна Леопольдовна удивленно посмотрела на него, но промолчала.
— Да, да… — продолжал Линар. — Немцы разрушили государство ваших предков, затоптали его, оставив небольшое Мекленбургское княжество. И я тешу себя надеждой, — приняв шутливый тон, добавил он, — как представитель польского короля, что нынешняя правительница России, славянка от рождения, будет более склонна принять сторону Польши, нежели Пруссии.
— Ужасно устаю от политики. Переговорите о том с Остерманом. Ему близки ваши позиции.
— Это умнейший из дипломатов, — заметил Линар. — В Европе его ценят чрезвычайно.
— И не только в Европе, — поправила правительница. — Впрочем, что же Италия? Вы не договорили, а я ни разу не бывала в этой стране, откуда ведут род свой ваши предки.
Линар, в знак благодарности, пожал ей руку, и почувствовал: она не торопится выпускать ее.
XV
Вскоре после появления Линара в Петербурге аудитор Барановский получил приказ наблюдать за дворцом цесаревны Елизаветы Петровны и рапортовать, «какие персоны мужеска и женска пола приезжают, також и ее высочество куды изволит съезжать и как изволит возвращаться… Французский посол, когда приезжать будет во дворец цесаревны, то и об нем рапортовать…»
Правительство не на шутку волновали контакты Елизаветы Петровны с иностранными дипломатами.
Желая узнать, что может объединять маркиза де ла Шетарди, так ненавидящего русских (о чем прекрасно были осведомлены, к слову, англичане), с цесаревной, Остерман даже просил английского посла Финча пригласить к себе в гости болтливого Лестока и за вином выведать о содержании тайных ночных разговоров посла с дочерью Петра Первого.
Были большие подозрения насчет замыслов Шетарди и Нолькена.
Обратило на себя внимание и сближение Нолькена с врачом ее высочества Елизаветы Петровны Лестоком под предлогом врачебных советов.
Антон-Ульрих в разговоре с Финчем сказал с тревогой:
— Шетарди бывает у Елизаветы очень часто, даже по ночам, переодетый, а так как при этом нет никаких намеков на любовные похождения, посещения эти, очевидно, вызваны политическими мотивами.
Маркиз де ла Шетарди действительно с головой окунулся в заговор. Были и ночные визиты, и переодевания, и тайники в секретных местах. «Свидания происходили в темные ночи, во время гроз, ливней, снежных метелей, в местах, куда кидали падаль», — напишет в своих мемуарах мать Екатерины II.
В Зимнем дворце обсуждались возможные варианты заговора. Правительство с подозрением поглядывало в сторону Миниха. Сильно боясь, чтобы опальный фельдмаршал не вздумал возвести на престол Елизавету, оно опасалось, как бы он не вступил в контакт с цесаревной. На то были причины. Бирон, находясь под следствием, давал следующие показания: «Фельдмаршала я за подозрительного держу той ради причины, что он с прежних времен себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россиею недовольна, а французские интриги распространяются и до всех концов света… Его фамилия впервые сказывала мне о прожекте принца Голштинского и о величине его, а нрав фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию…»
До Антона-Ульриха дошло известие, что Миних, быв в доме у ее высочества Елизаветы Петровны, припал к ногам ее и просил, что ежели что ее высочество ему повелит, то он все исполнить готов. На что цесаревна изволила ответить следующее: «Ты ли тот, который корону дает кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу».
Этого было достаточно, чтобы принц Брауншвейгский Антон-Ульрих поручил секунд-майору Чичерину выбрать до десяти гренадеров с капралом, одеть их в шубы и серые кафтаны и наблюдать, не ездит ли кто по ночам к Елизавете, Миниху и князю Черкасскому, за что капралу дано было 40 рублей, а солдатам по 20 рублей.
— Он уже предлагал свои услуги Елизавете! — говорил отец императора с возбуждением Финчу. — Его пора низложить, этого нестерпимого Миниха.
Едва узнав о новой поездке фельдмаршала к Елизавете, Антон-Ульрих отдал секретный приказ «близко следить за ним и схватить его живым или мертвым, если он выйдет из дому вечером и направится к великой княжне.
В один из дней, явившись на настойчивый зов Елизаветы Петровны к ней, в Смольный, де ла Шетарди услышал от цесаревны, что «дело зашло так далеко, что дольше ждать не представлялось возможным».
— Гвардия преданна, люди в нетерпении. Но нужны… — она не договорила, приступив было к самому щекотливому вопросу о деньгах, так как ей доложили о приезде английского посла Финча.
Елизавета знаком пригласила французского посла остаться и дождаться отъезда непрошеного гостя.
Внимательный Финч сразу же почувствовал обстановку и сократил свой визит, сославшись на срочные дела.
— Вот мы и избавились от него! — воскликнула Елизавета.
Задерживаться, однако, для продолжения разговора не было возможности, нельзя было давать повода к подозрениям.
— Имейте в виду, — провожая Шетарди до дверей, сказала Елизавета Петровна, — мне нечего более стеснять себя, вы можете приходить ко мне, когда вам заблагорассудится.
Лесток, спускаясь с ним по лестнице, сумел намекнуть о деньгах, рассказав о недавнем поступке правительницы, которого бы она могла не делать и который решительно оскорбил Елизавету Петровну.
Имея тридцать две тысячи рублей долгу, которые принуждена была неизбежно делать в прежнем своем положении и с которыми ей, даже при помощи данного ей пенсиона, невозможно было разделаться иначе, как запутав себя на несколько лет (Липман с готовностью предлагал деньги, «по-свойски», но под такой процент, что и десятка лет не хватило бы распутаться с ним), Елизавета Петровна попросила, чтобы их заплатили за нее. Правительница не отказала в просьбе, но, вероятно, в предположении, что цесаревна желает выиграть в итоге, потребовала, чтобы принцесса представила в подтверждение своих долгов счеты от купцов. Проверка этих счетов не была выгодна. То, что было сделано на память, увеличилось по мере того, как стали справляться со счетами и вместо тридцати двух тысяч открылось сорок три тысячи долгу, которые и имели горесть заплатить, без всякой для себя выгоды.