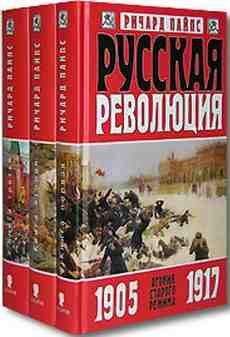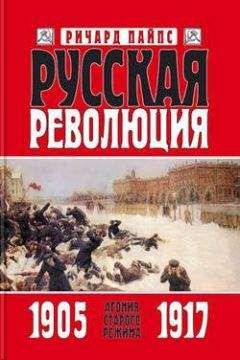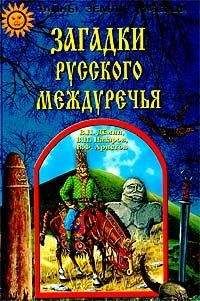Ричард Пайпс - Россия при старом режиме
«Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89-го года». [И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем; Сочинения, т. IX, М.-Л., 1965, стр. 119]. С первого взгляда эта тургеневская фраза производит странное впечатление. Однако смысл ее прояснится, если рассматривать ее в контексте судьбоносного спора, завязавшегося в России между радикальной интеллигенцией и писателями и художниками.
Литература была первым поприщем в России, порвавшим узы вотчинного раболепства. Со временем за нею последовали и другие области духовной деятельности: изобразительное искусство, гуманитарные и естественные науки. Можно сказать, что к середине XIX в. «культура» и преследование материального интереса были единственными сферами, в которых режим позволял своим подданным подвизаться более или менее нестесненно. Однако, поскольку, как отмечалось в начале этой главы, преследование материального интереса шло в России рука об руку с полным политическим подобострастием, возможную базу для оппозиции составляла одна культура. Естественно поэтому, что она постепенно все больше политизировалась. Можно категорически утверждать, что при старом режиме ни один великий русский писатель, художник или ученый не поставил свое творчество на службу политике. Немногие, кто так сделал, были посредственностями. Между политикой, которая требует дисциплины, и творчеством, нуждающимся в свободе, есть коренная несовместимость, ибо из них получаются в лучшем случае плохие союзники, но чаще всего — смертельные враги. В России, однако, вышло так, что люди творчества испытывали чудовищное давление со стороны стоявшей слева от центра интеллигенции, требовавшей, чтобы они предоставили себя и свои произведения в распоряжение общества. От поэтов требовали писать романы, а от романистов — разоблачения социальных язв. Художников просили своим искусством дать всем, а особенно неграмотному люду, зримое изображение страданий, испытываемых массами. Ученых призывали заняться проблемами, имеющими неотложное социальное значение. Западная Европа тоже не обошлась без такого утилитарного подхода, однако в, России голос его сторонников звучал куда громче, поскольку культура, а особенно литература, занимали в ней такое уникальное положение. Как говорил верховный жрец утилитарной эстетики Чернышевский:
В странах, где умственная и общественная жизнь достигла высокого развития, существует, если можно так выразиться, разделение труда между разными отраслями умственной деятельности, из которых у нас известна только одна — литература. Потому как бы ни стали мы судить о нашей литературе по сравнению с иноземными литературами, но в нашем умственном движении играет она более значительную роль, нежели французская, немецкая, английская литература в умственном движении своих народов, и на ней лежит более обязанностей, нежели на какой бы то ни было — другой литературе. Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься и такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведывание других направлений умственной деятельности. В Германии, например, повесть пишется почти исключительно для той публики, которая не способна читать ничего, кроме повестей, — для так называемой «романной публики». У нас не то: повесть читается и теми людьми, которые в Германии никогда не читают повестей, находя для себя более питательное чтение в различных специальных трактатах о жизни современного общества. У нас до сих пор литература имеет какое-то энциклопедическое значение, уже утраченное литературами более просвещенных народов. То, о чем говорит Диккенс, в Англии, кроме его и других беллетристов, говорят философы, юристы, публицисты, экономисты и т. д., и т. д. У нас, кроме беллетристов, никто не говорит о предметах, составляющих содержание их рассказов. Потому, если бы Диккенс и мог не чувствовать на себе, как беллетристе, прямой обязанности быть выразителем стремлений века, так как не в одной беллетристике могут они находить себе выражение, — то у нас беллетристу не было бы такого оправдания. А если Диккенс или Теккерей все[-таки] считают прямою обязанностью беллетристики касаться всех вопросов, занимающих общество, то наши беллетристы и поэты должны еще в тысячу раз сильнее чувствовать эту свою обязанность. [Н. Г. Чернышевский, «Очерки гоголевского периода», в его Эстетика и литературная критика. Избранные статьи, М.-Л., 1961, стр. 338].
Ключевым словом в этом отрывке является «обязанность», повторенная в нем четырежды. Утилитарная критическая школа, с 1860 по 1890 г. занимавшая в России практически монопольное положение, диктовала, что священным долгом всякого писателя, а особенно писателя русского, является «быть выразителем стремлений века», иными словами, перо его должно быть поставлено на службу политическим и социальным чаяниям народа. Молодой Писарев выдвинул теорию утилитарной эстетики в ее самой крайней форме. Оперируя принципом сохранения энергии, он доказывал, что отсталое общество не может позволить себе такой роскоши, как литература, не обслуживающая потребностей социального прогресса. Ум был для него формой капитала, нуждающегося в бережливом использовании. «Мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны», писал он в эссе «Реалисты», заключая, что писание (и чтение) литературы, имеющей главным образом развлекательное назначение, являет собою непростительное разбазаривание народных ресурсов.
В полемике между утилитаристами и приверженцами «искусства для искусства» основные раздоры вертелись вокруг Пушкина. До 1860-х гг. его место в русской литературе не вызывало сомнений. Его чтили не только как величайшего русского поэта и основоположника русской литературы, но и как новый национальный тип. Пушкин, писал Гоголь, — «это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет». [Н. В. Гоголь, «Несколько слов о Пушкине», Собрание сочинений, М., 1950, VI, стр. 33]. Но известно, что Пушкин не выносил людей, хотевших, чтобы искусство служило каким-то посторонним целям. Для него «цель поэзии — поэзия», а «поэзия выше нравственности». [Цит в С. Балухатый. ред… Русские писатели о литературе, т. 1, Л., 1939, стр. 109]. Именно из-за таких его взглядов критики из радикалов избрали Пушкина главной своей мишенью, усматривая в нем главный бастион идеализма, который они вознамерились повергнуть. Для Чернышевского концепция искусства, служащего самому себе, отдавала черствостью, граничащей с изменой. Как он говорил, «бесполезное не имеет права на существование». [Цит в [Е. Соловьев] Андреевич, Опыт философии русской литературы, 2-е изд., СПб, 1909. стр. 6]. Он неоднократно обрушивался на Пушкина не только как на человека безответственного и бесполезного, но и как на второразрядного стихотворца, всего-навсего подражателя Байрона. Enfant terrible своего поколения Писарев окрестил Пушкина «возвышенным кретином». [Д. И. Писарев, Сочинения, т. 3, М., 1956, стр. 399]. Бесконечные кампании такого сорта не только подорвали на время пушкинскую репутацию, но и имели весьма расхолаживающее действие на всех, не считая самых великих литературных и художественных дарований.
Великие отвечали ударом на удар. Они отказывались служить пропагандистами, будучи убеждены, что коли у них и имеется социальная роль, то состоит она в том, чтобы быть верным зеркалом жизни. Когда А. С. Суворин стал сетовать Чехову на то, что писатель не выносит в своих рассказах нравственных оценок, тот ответил:
Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. Я пишу: вы имеете дело с конокрадами, так знайте же, что это не нищие, а сытые люди, что это люди культа и что конокрадство есть не просто кража, а страсть. Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно и почти невозможно по условиям техники. [Письмо А. С. Суворину (I апреля 1890) в Письма А, П. Чехова, т. III, M., 1913, стр. 44].
А Толстой коротко, но ясно высказался на эту тему в письме к П. А. Боборыкину:
Цели художника несоизмеримы (как говорят математики) с целями социальными. Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истощимых ее проявлениях. [Письмо 1865 года, цит. в Балухатый, ред., Русские писатели, т. II. стр. 97].
Раздоры эти имели куда большее значение, чем может показаться из их литературной оболочки. Речь шла не об эстетике, а о свободе художника (и, в конечном итоге, каждого человека) быть самим собою. Радикальная интеллигенция, борющаяся с режимом, который традиционно стоял на принципе обязательной государственной службы, сама начала заражаться служилой психологией. Убеждение, что литература, искусство и (в несколько меньшей степени) наука прежде всего имеют обязанности перед обществом, сделалось в левых кругах России аксиомой. Социал-демократы как большевистского, так и меньшевистского толка настаивали на этом до конца. Поэтому нечего удивляться, что, добравшись до власти и завладев аппаратом подавления, давшим им возможность воплотить свои теории на практике, коммунисты скоро отняли у русской культуры свободу выражения, которую она сумела отвоевать при царском режиме. Так интеллигенция обратилась против самой себя и во имя общественной справедливости наступила обществу на горло.