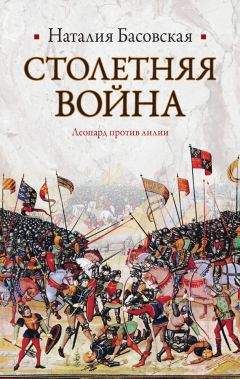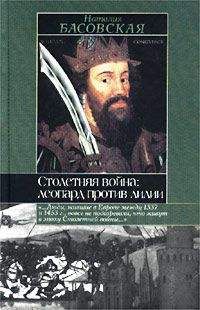Павел Загребельный - Диво
- О горе нам! - закрыл руками лицо Глеб и быстро вышел из трапезной.
Ярослав пошел за ним, хотел спросить, долго ли тот пробудет у него, но Глеб шел слишком быстро, гнаться же за ним старшему брату было не к лицу. Велел лишь: если молодой князь захочет на рассвете уезжать, то не открывать ему ворота, пускай еще побудет здесь день или два, как-то легче ему, когда хотя бы один брат, даже не согласный с тобою, все же здесь, и люди видят и знают, и уже и у них веселее на душе.
Глеб, словно угадав мысли старшего брата, остался без принуждения, быть может, в надежде на то, что удастся ему уговорить Ярослава, целый день молился он ревностно в церкви, а Ярослав тем временем ездил по Новгороду, осматривал, быть может, в последний раз, все приготовленное к войне против отца и страшно злился на Коснятина, который так долго задерживается за морем.
И этой своей злостью Ярослав словно бы вымолил прибытие Коснятина, да еще и счастливое прибытие!
Князь был на торговище, жаловались ему новгородцы, что купцы захожие дерут с них три шкуры за всё, и уже за кадь ржи запрашивают по пять гривен, а воз репы - неслыханное дело! - продают за гривну, хотя что такое репа? Вода! Уже бывали случаи, когда черный люд громил богатые дворы и купеческие заезды, расползались злые слухи, появились знамения, предвещавшие беду. Так, кто-то видел после первых петухов исчезающую летучую светлость на небе, в той стороне, где лежит Киев, а еще были такие, кто наблюдал на небе три солнца, три луны, а также звезды, которые взаимно уничтожались.
Ярослав велел править молебны в храме Софии, но знал еще и то, что одни молебны не помогут, ибо язычников в Новгороде было намного больше, чем христиан, да и не одними молитвами жив человек, ему нужна и рожь, нужна и одежка. Поэтому Ярослав ездил по торговищу, сопровождаемый тысяцкими и своими варягами, чинил скорый суд и расправу над хапугами и обдиралами, хотя нарушал тем право новгородское, которое воспрещало князю самочинные суды в городе, но ему это прощалось по причине военного положения; да и нужно признать, что суды Ярослава были справедливыми, потому что руководствовался он единственным желанием: хотя бы в малой мере добиться успокоения в голодном, набитом войсками, стянутыми из волостей, городе.
И вот здесь, на торговище, нашли Ярослава нарочные, охранявшие подходы к Волхову, прискакали верхом, в несколько голосов сразу закричали еще издалека, нарушая обычай и порядок: "Княже, плывут лодьи!"
Так и оказался Ярослав на главном вымоле, одетый в простую полотняную одежду, еще не согнав с лица усталости и забот повседневных, княжеского только и было на нем что богатый пояс с драгоценным оружием да еще сапоги из мягкого тима, зеленые, шитые желтым шелком, потому что любил князь удобную обувку.
А по Волхову, огибая острова, плыл корабль - паруса шелковые, палуба муравленая, сходни золотые, за кораблем длинные варяжские лодьи числом четыре и несколько стругов новгородских. Королевский штандарт развевался над корабликом - желтый с синим, и на вымоле в ответ было поднято знамя Ярослава - архангел Гавриил на голубом фоне, а воевода Будий, который знал обычай, тотчас же распорядился украсить пристань зелеными ветвями, приготовить жито, чтобы посыпать его под ноги королевне чужеземной, пришлой их княгине, а также привезти из княжеских хором меха, чтобы прошла по ним невеста, ибо всегда должна мягко ступать по этой земле.
Так было и сделано. Ярослав сошел с коня и стоял, чуточку расставив ноги, словно боялся, что возвратится давняя болезнь и не удержится он, упадет; на кораблике звенела оружием небольшая, но дьявольски лихая варяжская дружина, потом показалась и невеста: высокая, русоволосая, чистолицая, одетая в длинное дорогое одеяние, голубое и желтое, как королевское знамя у нее над головой; возле невесты вырос пышный и улыбающийся Коснятин, повел ее к сходням, придерживая край ее одежды, а с другой стороны, точно так же держа за край длинного наряда, тяжело шагал высокий варяг, видно ватажок дружины, они провели Ингигерду на вымол, остановились перед Ярославом, который до сих пор стоял, расставив ноги и нерешительно хлопая глазами; Коснятин поклонился князю, прокричал своим громким, сочным голосом:
- Сама дочь Олафа, конунга свейского, Ингигерда перед тобой, княже!
- Приветствую тебя, Ингигерда, на земле Русской, - сказал Ярослав по-варяжски и шагнул навстречу своей невесте, будучи вынужденным смотреть на нее немного вверх, ибо был ниже Ингигерды; ее это, видно, потешило малость, она улыбнулась одними губами, - губы эти, как сразу заметил Ярослав, были очень выразительны и красивы, - но глаза оставались невозмутимыми, они были пронзительно-прозрачны, будто холодная зимняя вода, глаза не улыбнулись, не потеплели, и ничего не ответила она, так что пришлось князю сказать и вовсе уж простые слова:
- Здорова будь, Ингигерда!
- Здоров будь, княже, - ответила она голосом глубоким и красивым и снова улыбнулась, кажется, и глазами, но князь мог и ошибиться, потому что ему не дали больше присматриваться к невесте, с кораблика двинулось посольство шведское; кланялись, что-то говорили, несли какие-то дары, а с другой стороны мгновенно все заполнилось зеваками, которым только дай поглазеть, а тут еще такое зрелище, какого в Новгороде, кажется, и не знали вовсе. Ярослав подал руку невесте и повел ее к выезду, уже приготовленному Будием, под ноги им сыпали жито, бросали зеленые ветки, доски мола были устланы бобрами, черными купицами, белыми горностаями. Ингигерда высоко поднимала ноги, ей непривычно было ступать по такому богатству; шведские короли, хотя и рассылали во все концы земли своих добытчиков - варягов, сами большими богатствами похвастать не могли, в Упсальском замке, в голых каменных палатах, гулял ветер; более всего хлопотали об оружии: чтобы вдоволь его было, добротного и навостренного как следует, - жизнь же была простая и непритязательная, ели из деревянной посуды, в крепчайшие морозы спали в нетопленых опочивальнях, лишь для детей перед сном согревали постель, засовывая под одеяла медные тазы с раскаленным углем, даже стыдно сказать! - подходящего отхожего места не имели в замке, была лишь возле самой королевской опочивальни на возвышении дыра, к которой бегали малые и взрослые, все это летело с большой высоты вдоль каменной стены вниз, во двор, а утром приходил туда слуга, сметал на лопату и швырял королевское "добро" в озеро.
Но Ярослав еще не знал об этом, для него Ингигерда была прежде всего королевской дочерью; видимо, гордилась она этим в душе и пренебрегала Ярославом. Ибо кто он есть? Неизвестный князек какого-то там русского города? Вспоминал о своем брате Всеволоде, тоже сыне Рогнеды (какими же неодинаковыми все они вышли от одной матери и одного отца!), которого Великий князь послал в шестнадцать лет княжить во Владимир на Волыни, а тот, прослышав о необыкновенной красоте Сигриды, вдовы только что умершего Эрика Шведского, бросил все и помчался в Скандинавию добиваться руки этой неземной красавицы. Что он тогда думал? Откуда в нем пробудилась тогда такая дикая кровь? Может, от отца, который стягивал для себя женщин со всего мира (но сам ведь не мчался к ним, а умел сделать так, чтобы добыть себе новую жену, даже пальцем не пошевельнув)? Самое же удивительное, что Всеволод оказался не одиноким в своей слепой страсти к женщине, которую никогда не видел. С другого конца мира прискакал к Сигриде Гаральд, король гренландский, муж твердый и грозный, не ровня тонкостанному юноше Всеволоду. Похоже было на то, что к Сигриде, будто к воспетой древним поэтом Пенелопе, соберутся женихи со всех концов, только не найдется на них Одиссея, воскресшего из своих смертей и странствий, жестокого в своей мести за пренебрежение к его дому и жене. Эрик Шведский не мог сравниться с Одиссеем, не возвратился из своего вечного плавания по рекам и морям преисподней, зато его Сигрида оказалась куда тверже Пенелопы. Усадив своих женихов за угощение, залив их медом и вином до самых ушей, велела она запереть их и собственноручно подожгла палату. Даже и по тем временам поступок Сигриды показался жутким, и прозвали ее Сторрада - то есть убийца. И хотя варяжские воины и разнесли повсюду песню о красавице Сигриде и гордом величии северных дев, но после случая с Гаральдом и Всеволодом что-то не слышно было охочих искать себе за холодным варяжским морем невест. Кажется, он, Ярослав, был первым после своего несчастного брата, и это должно было свидетельствовать либо о его отваге, либо, что хуже, о таком же самом безрассудстве, что и у брата Всеволода.
Ингигерда, видимо, немного обескураженная сотнями любопытных, которые, в отличие от холодных скандинавов, проталкивались друг перед другом, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на заморскую деву, ошеломленная пышностью невиданно богатых мехов, промолвила несколько слов по-славянски, чем как-то сразу утешила Ярослава, развеяла его печальные воспоминания о Всеволоде; уже князю не казался таким безумным его поступок, почему-то подумал он, что все идет как нельзя лучше, а страшные приметы предвещают несчастье не ему, а его супротивникам, все задуманное покамест осуществляется, стоит ему лишь протянуть руку - и все вкладывается в нее: собрано войско, пришла варяжская дружина, и прибыла из-за моря невеста, хотя до этого и обещана была королю норвежскому, и даже Шуйца, несмотря на всю ее дикость и необузданность, подчинилась ему, и должен он теперь...