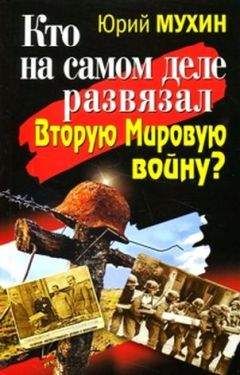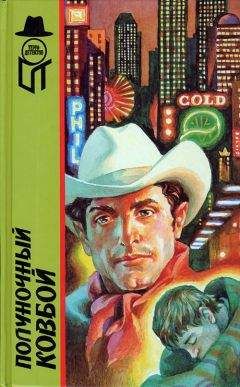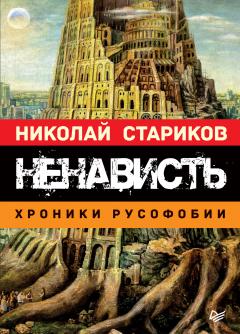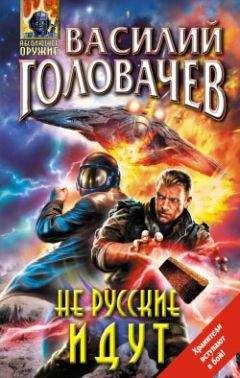Лев Вершинин - «Русские идут!» Почему боятся России?
Так что на Кубань поехали послы, нужный эмигрант выдвинул свои условия, условия были приняты, и 7 марта 1735 года Дондук-Омбо был официально объявлен «главным управителем калмыков» при живом хане, ставшем с тех пор чисто номинальной фигурой. Никакой роли он более не играл, вскоре вообще уехал жить в Петербург, а в феврале 1737 года скончался, – и ханом, естественно, стал Дондук-Омбо, отлично зарекомендовавший себя на полях сражений. Понравилось это не всем, но диссидентам пришлось либо смириться, либо принять православие и уйти в «удел Тайшиных», область Калмыцкого казачьего войска с центром в Ставрополе-Волжском, – ныне Тольятти, – на которую юрисдикция нового хана не распространялась. Прочими же правил он умело, но жестко, не стесняясь применять смертную казнь, в общем, среди калмыков не очень принятую, однако был справедлив с «малыми людьми», и потому популярен, а число воинов при нем выросло с 20 тысяч, как в последние годы правления Аюки, до 50 тысяч, надежно прикрывших границу России как от казахских набегов, так и от неприятностей на Кубани, и все бы хорошо, да только люди, достигший предела мечтаний, долго не живут.
Смерть Дондук-Омбо, богатыря в расцвете сил, не проснувшегося на рассвете 21 марта 1741 года, стала для русского правительства неприятным сюрпризом. Умершего хана только-только признали вполне надежным, на него очень рассчитывали, а теперь все расчеты приходилось менять, и чем скорее, тем лучше, потому что в улусе опять запахло жареным. Вдовствующая ханша, бывшая кабардинская княжна Джан Атажукина, хлопотала о своем сыне Рандуле, законном наследнике покойного, но он был еще мал, а перспектива видеть своенравную черкешенку регентшей совсем не радовала нойонов, так что вариант был не лучшим. Поэтому правительство сделало ханше предложение, от которого нельзя было отказаться: перебраться в Петербург, и вдова, некоторое время подумав, не лучше ли вернуться в Кабарду, решила все-таки влиться в цивилизацию. Так, – после крещения всей семьи в 1744-м, – в России появился княжеский род Дондуковых, а «главным правителем калмыков» (и с 1758 года, подтвердив, что достоин, ханом) стал дождавшийся, наконец, своего часа Дондук-Даши, сын умершего в «кронпринцах» Чакдоржаба. При этом вопреки правилам наследником был сразу утвержден его малолетний сын Убаши, – а это означало, что присвоение ханского титула отныне перестает быть внутренним делом калмыков, а патенты Далай-ламы можно сдавать в музей.
Ехать надо
Такие новации многочисленным претендентам на престол не понравились, однако при живом Дондук-Даши, вполне Россию устраивавшем, возражать никто не смел, зато после кончины хана в 1761-м несогласные подняли шум. Их было много, и сил у них было достаточно, но воля России была на сей раз выражена вполне конкретно: Убаши, и никто другой, а враждовать с Россией, как мы уже знаем, калмыцкая знать не любила. Так что кто-то из претендентов сделал ночь, кто-то, как водится, бежал на Кубань к ногайцам, – и поскольку серьезных фигур среди них не было, звать назад их никто не стал. Только княгине Вере Дондуковой, бывшей ханше Джан, и ее второму сыну Алексею, в девичестве Додьби (старший, Рандула, к тому времени умер от оспы), Петербург пошел навстречу, выделив особый удел – Багацохуровский улус, наследственное владение их покойного мужа и отца. Параллельно, однако, – во избежание смут в будущем, – российские власти пошли навстречу нойонам, подавшим прошение об учреждении «зарго», древнего, никем не отмененного, но давно забытого «надзорного органа», этакой «тройки», включавшей представителей трех «старших» улусов: торгутов, дербетов и хошутов, имевшей право контроля над всеми указами хана. Его решения хан не имел права оспаривать, а если все-таки желал это сделать, арбитром выступала Экспедиция калмыцких дел при губернаторе Астрахани.
Нетрудно понять, что молодому и очень резвому Убаши, мечтавшему быть самым главным, как прадед, такие нововведения пришлись крайне не по душе, и этим, безусловно, нашлось кому воспользоваться. Довольно скоро в калмыцкие улусы вернулся с Кубани и был прощен один из экс-претендентов, Цебек-Доржи, сумевший понравиться юному хану своим полным неприятием «зарго» и, став его ближайшим советником, принялся понемногу настраивать неопытного юношу против России. Уверяя, в частности, что раз русские поступили с ним так нехорошо, то и он вправе ответить им адекватно. Например, бросив все и вернувшись в родную, некогда покинутую Джунгарию, где китайцы лояльных монголов очень даже привечают, а реки вообще, – недаром же певцы поют, – текут молоком и медом. Трудно сказать, в самом ли деле Цебек-Доржи действовал по наводке Крыма, пославшего ему «сорок сумок золота, сорок кувшинов серебра», но факт остается фактом: работал он настойчиво и аккуратно, понемногу собирая вокруг себя кружок нойонов, считавших, что с Россией пора разводиться.
Резоны при этом у каждого были свои, – главному ламе ханства не нравилось, что калмыки принимают православие, кто-то не попал в «зорга» и обиделся, еще кто-то надеялся, воспользовавшись таким поворотом, сделать карьеру, а еще подливали масла в огонь и недавние эмигранты из разоренной Цинами Джунгарии, которым на Волге не нравилось и хотелось домой, – но разговорчики понемногу превращались в заговор, развитию которого, помимо прочего, способствовали и объективные обстоятельства. В первую очередь, недовольство калмыков, и не только знатных, запретом переходить на левый берег Волги. Логика в таком запрете была: Россия вновь воевала с турками и заботилась об облегчении мобилизации, но хозяйства кочевников от уменьшения территории пастбищ страдали, скот голодал и погибал, вслед за ним голодали люди, а голод никогда не способствует симпатий к власти. И это соображение заставляло нойонов думать о побеге в Китай еще серьезнее, ибо объявить виновницей всех бед русскую администрацию означало отвести обвинения от себя.
Железный поток
Короче говоря, к 1770 году все было уже готово. Недоставало только отмашки от хана, – Убаши никак не мог решиться сжечь мосты, – но и за этим дело не встало: летом 1770 года, пребывая в действующей армии на Северном Кавказе, хан поссорился с русским командующим, генерал-майором Медемом и, умело доведенный «ближним кругом» до белого каления, приказал коннице возвращаться в родные степи. А это уже называлось дезертирством, прецедентов за всю историю калмыков не имело и ничем хорошим кончиться не могло, так что, вернувшись домой, хан дал заговорщикам, только того и ожидавшим, зеленый свет. Сразу после чего Цебек-Доржи послал в Астрахань предупреждение о предстоящей «великой Государыне измене» с намеком на то, что уж он-то, кабы был ханом, не изменил бы ни за какие коврижки, но русская администрация, хорошо осведомленная, кто есть кто в ханской ставке, решила, что речь идет об очередном туре интриг, сообщению не поверила и никаких мер не приняла, так что и сам доносчик не рискнул настаивать. А потом стало поздно.
Движение улусов на восток началось в самом конце декабря, – причем на старте специально посланные заговорщиками люди перебили всех русских купцов и промышленников, находившихся в улусе, тем самым исключив для все еще сомневавшегося хана возможность передумать, – после чего в январе 1771 года свернул свою ставку, возглавив откочевку, и сам Убаши. Уходить хотели не все, но хан есть хан, так что подчинились многие даже из тех, кто не слишком хотел, а кто очень не хотел, тех нашли способ убедить. Многие же и вовсе не знали, что и почему, а просто исполняли приказ. В итоге в путь тронулись около 33 тысяч юрт (около 170 тысяч душ), – две трети всех калмыков, – а ослушаться воли хана смогли, в основном, зимовавшие далеко от ставки. И вполне понятно, что слабые пограничные крепости, коменданты которых, помимо прочего, не знали, в чем дело, сдержать уход такого количества людей, к тому же опытных воинов, просто не могли. Даже если бы рискнули. Но не рискнул никто: беглецы уходили потоком, затормозить который уже было невозможно.
Казацкие разъезды, запоздало посланные вслед «для вразумления», просто не рисковали приближаться: по приказу хана их расстреливали на расстоянии. Очень много проблем доставили башкиры, идущие по пятам и отбивающие скот и повозки. Еще больше бед принесли казахи, считавшие уходящих своей законной добычей и вымещавшие старые обиды, тем паче что от Белой Ханши пришла просьба вернуть беглецов, а если не выйдет, примерно наказать. Вернуть не вышло, но поживились и порезвились изрядно, калмыкам же, хоть они и отбивались, приходилось сложно, и чем дальше, тем сложнее. А зима и ранняя весна не способствовали выживанию слабых, и назад, – а желающих становилось все больше, пути не было из-за тех же казахов, но и впереди маячили туркмены Эмбы, вообще никаких правил не знавшие, и солончаки, и безводные пустыни близ Балхаша, и опять казахи, но уже горные, то есть киргизы, в те времена совсем дикие. В общем, когда после семи месяцев пути мигранты, наконец, отбиваясь от наседавших мародеров, переправились через верховья Или в пределы уже китайской Джунгарии, где их уже ждали представители маньчжурских властей, от 30 тысяч откочевавших юрт оставалось еле-еле две трети, а считая по душам, так и менее того…