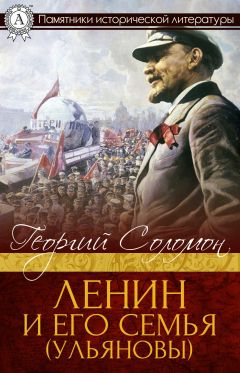(Исецкий) Соломон - Ленин и его семья (Ульяновы)
Но раз я коснулся этой стороны, не могу не сопоставить с этим его отношение к посторонним, неизвестным ему товарищам, его отношение к Менжинскому, его старому товарищу и другу, о чем я выше уже говорил. В течение этого пребывания Ленина у меня я несколько раз говорил ему о тяжелом положении Менжинского, человека крайне застенчивого, который сам лично предпочел бы умереть (я его застал умирающим от своей болезни, в крайней бедности, но он никому не говорил о своем положении), но ни за что не обратился бы к своим друзьям или товарищам. Но Ленин относился к моим указаниям совершенно равнодушно и даже жестко-холодно. Он ничего не сделал для него…
Описанный выше случай, когда Ленин обнаружил такую растрогавшую меня чисто товарищескую теплоту, был единственный, по крайней мере из известных мне. Возможно, что именно потому-то так врезалось мне в память и так меня растрогало, что это было так непохоже на Ленина, было так необычно для него и напоминало какое-то чудо вроде летающей собаки. И рядом с этим встает воспоминание об его грубом отношении к близкому ему товарищу Менжинскому. И невольно копошится подозрительное сомнение: да не было ли это его теплое, внимательное отношение к мало знакомому ему Мите, притом рабочему, лишь демагогическим жестом, позой для привлечения сердец?
ГЛАВА 8
«Отзовизм» и мой спор с Лениным. - Тяжелая сцена грубостей, и я осаживаю Ленина. - Предложение дискуссии об «отзовизме». — В нас обоих закрадывается взаимная неприязнь.
В это же пребывание Ленина у меня между нами произошло резкое столкновение с ним на почве принципиальной, о котором я вскользь говорю в моих, уже упомянутых, воспоминаниях «Среди красных вождей» и которое по мелочному и, скажу без обиняков, чисто обывательски-мещанскому злопамятству «великого» Ленина отразилось на его отрицательном, чтобы не сказать — нарочито враждебном отношении ко мне, когда он был всесильным диктатором и стал распоряжаться судьбами России. Он сводил тогда свои счеты со мною…
Расскажу подробнее об этом столкновении, так как в нем очень ярко выразился злобный характер Ленина.
Незадолго до доклада Ленина в Брюсселе же читал доклад и приблизительно на ту же тему покойный Юлий Осипович Мартов (лидер меньшевиков. — Ред.). В то время Ленин уже резко разошелся с ним, порвал личные сношения. В своем докладе Мартов, говоря о значении нахождения в Государственной думе социал-демократической фракции, обусловливал важность ее тем, что она увеличивает численно думскую оппозицию и может присоединять свои подписи к тем или иным петициям, подаваемым Государственной думой на высочайшее имя. Конечно, это была совершенно нереволюционная точка зрения, а чисто обывательски-либеральная.
И вот как-то вечером между Лениным и мною произошла беседа на эту тему. Ленин озлобленно ругал Мартова. Было уже за полночь, когда мы начали этот разговор, и мы оба раздевались для сна. Я и лег. А Ленин, начав разговор, по своему обыкновению, стал ходить по комнате в одном белье. Я, конечно, не разделял точки зрения покойного Мартова и особенно ее мотивировки.
Необходимо отметить, что в то время среди особенно большевистского крыла нашей партии возникло довольно резко и широко выразившееся течение за то, чтобы дезавуировать товарищей, входивших в думскую фракцию. Течение это, прозванное в партии «отзовизмом» (выступали за отзыв депутатов-социалистов из Государственной думы и прекращение легальной деятельности РСДРП. — Ред.), заразило и наиболее радикально настроенных товарищей-меньшевиков. «Отзовисты», к которым примыкал и я, так мотивировали свое требование об отозвании перед ЦК партии.
Думская фракция, указывали они, при своем количественном ничтожестве — если память мне не изменяет, она состояла всего не то из 11, не то из 17 человек — была и качественно очень слаба. Поэтому, не пользуясь по своей малочисленности никаким влиянием на ход парламентских дел и занятий, это левое крыло думской оппозиции, лишенное возможности осуществлять партийные задачи, могло играть в интересах рабочего движения лишь одну существенную роль, резко и определенно высказывая с думской трибуны требования и идеи рабочего движения, не пропуская для этого ни одного подходящего или удобного случая. Но слабая и по своему личному составу фракция своими выступлениями производила самое жалкое впечатление, часто смехотворное. Лица, входившие в нее, не исключая и лидера фракции, покойного Чхеидзе (Н. С. Чхеидзе, лидер меньшевиков. — Ред.), очень хорошего человека и честного, но ничем не напоминавшего собою народного трибуна, были люди робкие и совершенно незначительные как по характеру (отсутствие гражданского мужества, столь необходимого для воинствующей оппозиции), так и умственному убожеству и отсутствию необходимой эрудиции. А потому фракция нередко впадала в глубокие противоречия с основоположениями платформы партии (Упомяну о Петровском (Григорий Иванович, — Ред), который теперь является председателем Украинского Совнаркома, по принципу: на безлюдье и Фома человек. Он демонстрировал свое полное ничтожество во время процесса, инсценированного царским правительством, по обвинению фракции в государственных преступлениях (в 1916 г. — Ред). Мне лично передавали о той приниженной роли, которую играл этот «трибун» на суде. — Авт. ).
ЦК партии употреблял все свое влияние на фракцию, носясь с ней, как нянька, и ведя с нею определенно исправительную борьбу. Он обращался к ней с выговорами, замечаниями, требовал подчинения, давал ей указания и директивы по поводу обязательных выступлений с трибуны, подготовлял ее к этим выступлениям, давая ей не только необходимые материалы, но даже составлял целые речи, которые члены фракции должны были произносить с думской трибуны. Напоминал о партийной дисциплине… Но фракция оставалась верна себе и, продолжая проваливать и компрометировать рабочее движение, в то же время заявляла ЦК о своем полном подчинении и хваталась за свои высокие парламентские полномочия, дорожа своей депутатской неприкосновенностью. К тому же эти полные ничтожества обладали, как и все ничтожества, неукротимым самолюбием…
И вот в описываемое время в партийных кругах началось сперва глухое, но постепенно все нараставшее проявление негодования, отлившегося в конце концов в довольно широкое внутрипартийное движение за то, чтобы отозвать фракцию, то есть дезавуировать ее. Повторяю, в этом движении приняли участие не только большевистские круги партии, но в нем участвовало немало и меньшевиков, наиболее последовательных и прямолинейных.
Характерно то, что, как это и ни странно, Ленин относился очень терпимо к этим «маленьким недочетам», как он их называл, фракции и категорически высказывался против дезавуирования и вообще крутых мер… И вот мне пришлось в указанный вечер схватиться с ним в горячем споре по этому вопросу…
Я стал спокойно, чисто деловым тоном, тщательно аргументируя каждое отрицательное положение, нападать на думскую фракцию и ЦК, упрекая первую в указанном выше непозволительном поведении, в самом наглом нарушении партийной дисциплины, а ЦК партии — в слабости и явном потворстве. По своему обыкновению, Ленин спорил не просто горячо и резко, но запальчиво и с нескрываемым раздражением.
— Никакого тут потворства и слабости со стороны ЦК нет, — говорил он, — а есть просто стремление сохранить нашу парламентскую фракцию, что выгодно партии, возглавляющей и выражающей революционные интересы пролетариата. И всякий, у кого мозги не заволокло туманом, должен это хорошо понимать.
— Великолепно, — игнорируя его последний личный выпад, сказал я, — но ведь эта, с позволения сказать, наша парламентская фракция не умеет, не способна использовать трибуну, это единственное «окно в Европу», и, вместо того чтобы говорить в него всему миру о требованиях рабочего класса и вообще народа, лепечет какой-то жалкий и трусливый вздор, который только возмущает истинных представителей рабочего класса, как наших, так и западноевропейских. Вот в этом-то и зарыта собака.
— Это неверно! — резко закричав, оборвал меня Ленин. — Люди делают что могут и умеют. И это очень важно! Как вы этого не понимаете?!
— Я очень хорошо понимаю то, что вы говорите, — сказал я, — но в том-то и беда, что люди эти очень мало могут и ничего почти не умеют, почему им и не место представлять партию в парламенте.
— А, вот что! — возразил Ленин. — Значит, надо их отозвать. Очень остроумное решение, делающее честь глубокомысленности и политической мудрости его авторов!..
А я вам скажу, господин мой хороший и сеньор мой сиятельный, что «отзовизм» — это не ошибка, а преступление. Все в России спит, все замерло в каком-то обломовском сне. Столыпин все удушил, реакция идет все глубже и глубже… И вот, цитируя слова М. К. Цебриковой, — надеюсь, это имя вам известно, мой многоуважаемый, — напомню вам, что «когда мутная волна реакции готова захлестнуть и поглотить все живое, тогда стоящие на передовых позициях должны во весь голос крикнуть всем падающим духом: «Д е p ж и с ь !» Это ясно всякому, у кого не зашел еще ум за разум…