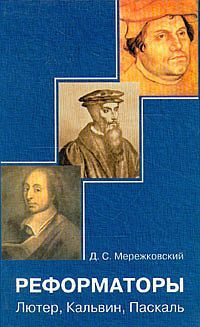Василий Болотов - Лекции по истории Древней Церкви. Том III
Другой деятель в определении отношений между церковью и государством — сами члены христианской церкви. В то время христианство в главной своей массе совпадало с пределами классического мира, и сложившиеся под влиянием естественных задатков и истории черты национального характера греков и римлян привнесли свою долю влияния в практическую выработку подробностей этих новых отношений.
С представлением о греках естественно возникает мысль о народе, богато одаренном умственными способностями, со славой заявившем себя в философии, науке, искусстве, — народе с пламенным чувством свободы, с ненавистью к тирании, племени республиканском по преимуществу. Скромно, почти в тени является наряду с идеальным греком фигура римлянина, с его ограниченным кругозором, бедностью теоретических начал, слабостью умозрения, с практицизмом часто сухим, с узкою положительностью. Мировая империя, которую осуществили властительные римляне, цезаризм, явившийся как завершение их исторического развития, часто ниспадавший до деспотизма, не говорит в пользу энергии чувства свободы, присущего римской расе. И когда мы только подумаем, что с Константина Великого политический центр тяжести переносится с латинского запада на греческий восток, то, по–видимому, остается только приветствовать это счастливое историческое совпадение. Однако подробное рассмотрение дела представляет его в другом свете.
Вопрос об отношении между церковью и государством, по своему существу, есть юридический. Между тем юридические начала, которыми жил греческий мир, не возбуждают ни в ком особенного интереса, тогда как юридический смысл римского народа всегда был предметом почтительного удивления ученых. Римляне были недалеки в области умозрения, под пером их мыслителей философские вопросы весьма скоро получали узко практическую постановку; но зато этот народ был силен административным, организаторским талантом; он умел властвовать, но умел и управлять. Между тем этого дара именно и недоставало грекам. В цветущий период своей истории они никогда не могли образовать из своих республик плотного, солидарного политического целого; даже когда гегемония в греческом мире перешла в мощные руки государей Македонии, и тогда центробежные силы взяли верх над центростремительными: монархия Александра не пережила его. Склонный более к умозрению, грек естественно расположен был сосредоточить все свое внимание на развитии догматической мысли и оставить в забвении область практических отношений.
Равным образом, одушевлявшее греков чувство свободы едва ли дает их национальному характеру много преимуществ перед римлянами. Свобода греков — понятие очень относительное; их постоянный трепет перед тиранией, может быть, был одним из спасительных инстинктов, в помощи которого они нуждались более, чем другие народы. В самом деле, в правлении самых чистых представителей греческой расы, афинян, весьма сильно дает себя знать личное начало. История Афин довольно полно может быть изложена в биографиях знаменитых лиц, стоявших во главе их республики; это едва ли возможно сказать относительно Рима. У греков в разряде исторических деятелей преобладают люди высокоталантливые; у римлян — более или менее посредственные; там имеет больше значения гений индивидуума, здесь — сложившаяся система. Герои греческого мира управляли судьбами своего отечества в смысле гораздо более полном, чем это можно сказать о римлянах. В отношениях этих двух народов к своим представителям есть значительная разность. Государственные люди Афин были более, чем доверенные лица народа, это были его любимцы; римские консулы обыкновенно были просто чиновники. Римский консул по прошествии срока естественно стушевывался, сходил в почетный ряд консуляров. Для исторических деятелей Афин не было этого срока: они стояли во главе управления всю жизнь; если же они оставляли свой пост, то была народная опала. Они кончали даже хуже, — почти государственной изменой: припомните Фемистокла. Афиняне любили своих выдающихся деятелей; если же их только уважали, то их уже начинали бояться, и спешили избавиться от их присутствия остракизмом. В этой практике чувствуется признание беспомощности перед обаянием умственной силы, неспособности удержать его деятельность в должных границах. Афинянин колебался между крайностями бунта и благоговения. Римляне умели просто уважать своих героев: в то время как квириты воздавали заслуженную честь своему чиновнику–генералу, верные ему солдаты забрызгивали его грязью как частного человека. Личность героя в Риме значила не очень много; сцена римского триумфа на улицах Афин просто невероятна. В Греции государственный человек мог увлечь за собой общественное мнение до того, что становился тираном своего подвижного, часто легкомысленного народа; тирания в Афинах имеет гражданский характер. В Риме даровитая индивидуальность немного могла сделать против твердо установившихся форм правовых отношений; и если тиранов знавали и в Риме, то они все же должны были опираться на грубую военную силу. Тирания в Риме была господством милитаризма.
Еще одно обстоятельство значительно повлияло на характер греков: при их любви к свободе, они подпали железной власти Рима, и никогда не могли свергнуть с себя этого ига. Рабство даже на устойчивых римлян действовало разлагающим образом, даже их оно нравственно принижало. Грека оно просто подавляло: не будучи в силах добиваться простора открытым путем, он действовал темными средствами, шел к нему окольным путем интриг, заговоров, лукавства и мести. Эти низкие проявления сделали греков ненавистными для римлян: Ювенал, далеко не в розовом свете представлявший нравственное состояние своих соотечественников, о греках говорит с глубоким презрением: natio tota comoeda; они представляются ему насквозь фальшивыми и низко льстивыми. Эта сторона греческого характера, конечно, не может быть допущена без сильных ограничений; разложение коснулось, конечно, главным образом, культурных слоев греческого племени; притом не все говорившие по–гречески были чистыми греками. Но и смесь национальностей не всегда их облагораживала.
Во всяком случае, эти два классические народа противостоят один другому как более упругий, суровый, прямой и устойчивый, — и с другой стороны — более утонченный, мягкий, иногда легкомысленный, непостоянный, уклончивый до лукавства и хитрости, льстиво–искательный. Оба эти народа имели свои достоинства и свои недостатки. От римских христиан естественнее ожидать более стойкой, главное систематической защиты церковной свободы против возможного покушения на нее государственной власти. Но они могли преувеличить значение спорных вопросов и из борьбы за свободу сделать борьбу за преобладание. Греческий христианский мир, после трех веков страданий, легко мог поддаться обаянию новых отношений христианского государя и ослабить необходимый контроль над его действиями. Ради догматических преобладающих интересов грек легко мог поступиться некоторыми формальными прерогативами. Первые могли решить вопрос об отношении между государством и церковью неправильно, из вопроса о свободе сделать вопрос властолюбия; в характере греков были задатки для того, чтобы не ре–шить этого вопроса вовсе, не понять его в его простейшей, элементарной постановке, с слишком большим доверием положиться на действия благорасположенного государя и начать борьбу за церковную свободу лишь тогда, когда притязания государственной власти коснутся области догматических верований.
Само собой разумеется, что подобное влияние национальных различий трудно оправдать в каждом частном факте; поведши дело таким образом, мы непременно встретим множество ис' ключений. И это понятно. Главный колорит исторических фактов зависит от общих свойств и слабостей человеческой природы: римлянин всего чаще действует так же, как и грек, по тем же мотивам, по каким стал бы действовать и германец, и славянин. То, что привносит национальный элемент, слабо, но постоянно отражается во второстепенных тонах общего колорита; но в конце концов дает такую сумму влияний, что римская церковь ведет сильную борьбу за мировую власть, за господство над государством, тогда как восточную церковь никогда нельзя было обвинить в серьезном посягательстве на права государства.
Кроме личных особенностей императора Константина, с одной стороны, и национального характера греко–римских христиан — с другой, на отношения церкви и государства должны были влиять, и даже более чем что другое, исторически сложившиеся черты этих членов образующегося союза.
Император волей или неволей должен был являться представителем традиций античного государства, а эти традиции таковы, что они всего более вели к отрицанию равноправности нового союзника. Римское государство исторически развивалось совместно с римским культом, в строгом смысле включая его в себя, как часть в свое целое. О разделении церкви от государства, о принципиальном различии религиозных и политических учреждений в предшествующей истории Рима не было и речи. Напротив, история его сложилась так, что он не имел повода узнать своеобразный характер этих учреждений. Как религия естественная, религия римского народа заключала в себе слишком мало таких нравственных элементов, которые могли бы возложить на римский народ обязанности, противоположные его политическим задачам и стремлениям. Коллизии между религией и государственностью не могли быть значительно сильнее, чем возможные в современном государстве столкновения различных ведомств. Серьезных столкновений не могло быть. Да и там, где религия давала чувствовать свое значение государственной власти (разумеется, где этот авторитет был факт, а не ораторская фраза), и в этих случаях религия чаще всего оказывалась только ширмой, за которой действуют органы аристократической партии. В доказательство смешения государственного и религиозного начала можно сослаться, например, на то, что те же патриции, в руках которых сосредоточены были и важнейшие государственные должности, были и жрецами. Наконец, с Августа римские императоры были верховными первосвященниками. Соединение в одном лице этих званий могло лишь усложнять задачу.