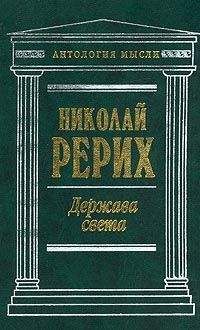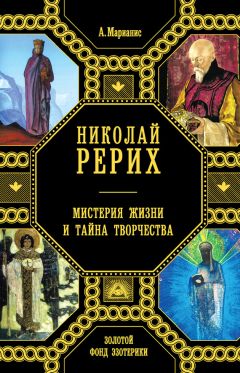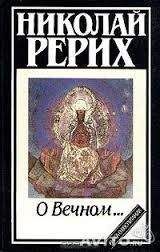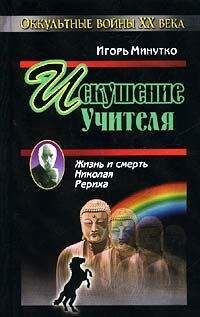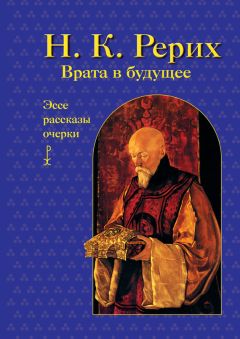Жан Дювернуа - Н К Рерих, Страницы биографии
ВСТРЕЧА В ЛАХУЛЕ
(Из бюллетеня Музея Рериха)
После шестидневного пути по узким, вьющимся над пропастями тропинкам, пройдя перевал Ротанг Пасс (13 400 футов над уровнем моря) и все снежные аваланши, мы достигли, наконец, Кейланга, столицы Лахуля, называемого Западным Тибетом. Прекрасное утро. Перед нами блистают глетчеры центральных Гималаев. Снежные вершины поднимаются до 21 000 футов, а в долине гремят воды горных потоков. Здесь же на высоте 10 000 футов дышится так легко. Наши лошади чуют приближающийся отдых и начинают идти быстрее. У моста нас встречает школьный учитель в тибетском костюме и отделанной мехом шапке. Он приветствует нас гирляндами из душистого желтого шиповника. Не успели мы сделать другой поворот, как нас уж ждет встреча: целый оркестр из труб и барабанов. Здесь нас встречает Вазир, правитель этого края, и приносит нам в дар гирлянды цветов и ладан.
Под грохот оркестра мы приближаемся к Кейлангу. Проезжаем мимо местного монастыря, где, приветствуя нас, мощно звучат гигантские трубы, а на плоской крыше, выстроившись в ряд, стоят ламы, включая седобородого главного ламу. Они имеют величественный вид в своих красных одеяниях и прекрасной формы тиарах. Крыши города полны людей. Женщины в праздничных одеяниях забрасывают нас дождем цветочных лепестков. Улицы базара запружены народом. Школьники стоят, выстроившись в ряд, и по знаку, данному Вазиром, толпа приветствует
48
нас радостными кликами. Мы проезжаем через украшенные можжевельником арки, построенные специально для нашей встречи, с трогательными надписями наверху: "Долгие годы благородному профессору Рериху и его супруге". И к трубному гласу и барабанам улыбающаяся толпа лахульцев присоединяет свои приветственные песни. Так, в растущей процессии, предшествуемой музыкой, мы направляемся к Лахульскому отделу Гималайского Института Музея Рериха. Однако приветствия еще не кончились; приближаясь к лагерю, мы замечаем еще одну депутацию лам, также с трубами и в тиарах. Они предлагают нам тибетский чай и восхищаются, как свободно Ю.Н.Рерих говорит по-тибетски. Приближается процессия женщин, возглавляемая красавицей-туземкой. Ее головной убор сплошь покрыт бирюзой, с каждой стороны его свисают по двадцати тяжелых серебряных серег, в носу большое золотое кольцо; вышитое яркендское покрывало в виде мантильи служит как бы фоном для множества драгоценных украшений, а серебряный молитвенный ящичек висит на ожерелье из кораллов, золотых бус и бирюзы. Она подносит нам священное молоко яка и поливает им наши руки. Это большой день для всего Кейланга, ибо гости, которых туземцы встречают, окружены в их глазах ореолом славы за пройденные пути Азии, за победу, одержанную над всеми трудностями, и за великое понимание человеческого сердца.
Чудесное, сияющее, мирное и незабываемое утро!
* * *
По всей жизни Мастера прошли зовы Востока. Замечательно, что одним из самых ранних детских воспоминаний его является старинная картина в отцовском доме, изображавшая гору, озаренную лучами восходящего солнца. Впоследствии Рерих нашел
49
гравюру этой картины в биографии Ходсона - это была Канченджанга!
От легенд, от апокрифов, которые часто ближе к жизни, чем официальные источники, опять вернемся к реальности. Почему так верят самые разнообразные люди Рериху? Только ли потому, что правдивы и прекрасны зовы его? Потому ли, что успех сопровождает дела его? Может быть, еще и потому, что каждый сотрудник его знает: Рерих не предаст, не отступит и всегда найдет оправдывающую крупицу истины. Это сознание уверенности среди поколебленных устоев окружающей жизни создает то, что за Рерихом идут легко, ибо и цель будет поставлена большая и само странствие превратится в поход к Свету. Сердечностью звучат призывы Рериха, зовущего, указующего и свидетельствующего жизнью своею, как легко и достижимо превращать хаос непонимания в праздник подвига. Из последних призывов Рериха не могу не привести его зова к Единению Женщин. Не холодом рассудка, но всей теплотою сердца написаны эти слова:
"Когда в доме трудно, тогда обращаются к женщине. Когда более не помогают расчеты и вычисления, когда вражда и взаимное разрушение достигают пределов, тогда приходят к женщине. Когда злые силы одолевают, тогда призывают женщину. Когда расчетливый разум оказывается бессильным, тогда вспоминают о женском сердце. Истинно, когда злоба измельчает решение разума, только сердце находит спасительные исходы. А где же то сердце, которое заменит сердце женское? Где же то мужество сердечного огня, которое сравнится с мужеством женщины у края безвыходности? Какая же рука заменит успокоительное прикосновение убедительности женского сердца? И какой же глаз, впитав всю боль страдания, ответит и самоотверженно, и во Благо?
50
Не похвалу женщинам говорим. Не похвала то, что наполняет жизнь человечества от колыбели до отхода. Кому давали венки? Издревле венки давались героям и были принадлежностью женщин. И женщины древности при гадании снимали эти венки и бросали их в реку, при этом всегда думая не о себе, а о ком-то другом. Если венок-венец есть символ геройства, то запечатление этого геройства - именно когда венец снимают во имя чего-то или кого-то другого. И это не только бездеятельное самоотвержение, нет, это действенный подвиг! И опять не будет похвалою, но действительностью, когда мы сопоставляем женщину с подвигом.
Ушло средневековье с унижением и умалением женского достоинства. Люди опять сознали грядущую эпоху Матери Мира. И опять меч подвига в руке Жанны д'Арк. И опять сияние - но не зарево костра, а пылание сердца. Сколько тьмы, сколько уродливых порождений злобы и невежества сожжет это сердце пылающее. Сколько пошлости, сколько безумных умалений достоинства человечества сметет луч сердца женского, осознавшего венок-венец, ей врученный.
Когда мы говорим о Культуре, разве мы не имеем в виду прежде всего женщину, которая неудержно широко понесет Знамя утонченной возвышенной Культуры во все концы, от колыбели до трона.
Когда в доме трудно, зовут женщину. И в телесных, и в духовных болях призывают именно ее. И к кому же обратить это слово "трудно", "тяжко", как не к женщине? А ведь сейчас трудно, очень трудно в большом доме планеты. Смутился дух человеческий, смутился во взаимовредительстве. И даже сами силы природы словно бы возмутились. Землетрясения, извержения, потопы, смешения климатов - все вносит еще большее смущение в и без того смятенный дух человеческий. Но история знала уже такие
51
периоды, а человечество знает и панацею от этих бедствий. И эта панацея - Культура. Там, где рука и мозг обессилевают, там непобедимо сердце, а сердце есть держава Света, средоточие Культуры.
Ваше трехмиллионное воинство женское одобрило и приняло наше Знамя Культуры и Мира. Сердце женское живет не одними словами, но подвигом. Так было во всей истории человечества. Поэтому мы понимаем, что, одобрив и приняв Знамя Культуры и Мира, женщины и понесут его так же действенно, как может пылать священным огнем женское сердце.
Не только благодарить хочу вас, женщины, воинство Матери Мира, за принятие Знамени Культуры и Мира, но настоящим хочу отметить исторический факт, как три миллиона женщин Америки поняли и приняли Знамя Культуры как нечто неотложное и нужное во общее спасение, в воссоздание традиции Света и Красоты.
Радостным будет для меня день, когда мне доведется быть лично на собрании вашем и приветствовать вас, но пока от гор Гималайских позвольте послать мое сердечное сотрудничество вам, воинству Матери Мира".
* * *
Леонид Андреев в своей прекрасной предсмертной статье "Держава Рериха" говорит: "Увидеть картину Рериха - это значит увидеть новый мир". Мы прибавим: "Идти за Рерихом - это значит вступать в новый мир". В своих обращениях Рерих неоднократно говорит: "Не похвала это". И мы скажем: "Не похвала это". Ведь каждый факт может быть подтвержден. Не кажущаяся туманность, но оформленность, ясность и победоносный Свет являются отличительными чертами этой многообразной и неустанной творческой жизни.
52
* * *
Характерно и то, что, когда мы собираемся здесь во имя Рериха, сам он в далеких Гималаях каждодневно творит. Может быть, там сейчас раннее утро. В семь часов встает художник-водитель. Может быть, к нему пришли ламы. Толкуют о целебных травах и о книгах, Шамбале посвященных.
Может быть, седобородый брамин пришел совершить ежедневную пуджу и принес новое пророчество Нар-Синга или бога Джамлу. Может быть, пришли женщины из Маланы или прислал привет раджа из Кулу. Может быть, снаряжается новая экспедиция в горы или же художник вместе с Еленой Ивановной проходит по саду роз. А может быть, у мольберта уже пишется новая картина со звездным небом или лучами восхода. Мне кажется - там раннее утро, и блещут вершины перевала Ротанга.
Помню, когда индусский журналист спросил Рериха, удобно ли ему руководить столь большими делами из горного уединения, Рерих отвечал: "Когда хозяйство обширно, то с горы виднее". И еще одно качество художника хочется отметить: необычайную легкость в передвижении. Вот мы говорим о том, что Рерих далеко. Но так возможно, что завтра придет весть о его приезде или сам он неожиданно появится с маленьким коричневым несессером в руках, про который он так любовно говорит: "Ведь он со мною уже двадцать пять лет ходит". Эта же трогательная бережливость при пламенной открытости ко всему новому звучит, когда Рерих говорит и о старых друзьях и иногда добавляет в случае чьих-нибудь ошибок: "А сердце-то у него недурное".