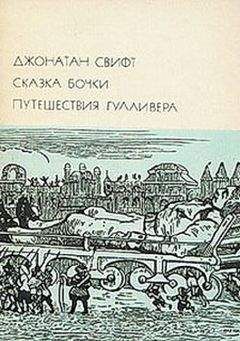Дмитрий Урнов - Робинзон и Гулливер
Дефо о чуме слышал разве что в детстве, однако стоило ему взять перо, в книге возник ужас «черной смерти». О привидении он сообщает репортерски: явилось в платье, на ощупь — шелк. На вопрос «видны ли из рая мучения ада?» он отвечал через газету так деловито, будто его спрашивали о ценах на рынке; он описывал все до того достоверно, словно сам побывал на небесах и в преисподней. «Как мужья должны обращаться с женами?», «можно ли королеву называть мадам?» — он авторитетно отвечал, и ему нельзя было не верить. Такова была сила этого человека, называемая единодушно одним и тем же словом — убедительность. Острова Атлантики, африканские джунгли, снега Сибири, муки ада, события самые свежие или времена вековой давности — все получалось у него доподлинно. Записки будто бы государственных лиц, составленные все тем же Дефо, принимали за настоящие мемуары даже люди, искушенные в политике. Путешественники готовы были допустить, что земли и воды, ими исследованные, еще раньше посетил автор «Робинзона Крузо».
Среди всевозможных версий, отрицающих авторство Шекспира и приписывающих его произведения философу Бэкону, государственным мужам Пемброку или Оксфорду и даже королеве Елизавете, есть и такая: Шекспира написал Дефо. В сущности это отражает все те же представления о Дефо: он способен был прикинуться и Шекспиром!
Сознавал ли Дефо, как он пишет? Понимал ли творец «Робинзона» что-нибудь в собственном искусстве? А если получалось это у него действительно «само собой», то можно ли считать такой рассказ «искусством»?
Насколько Дефо понимал себя сам, видно из предисловия к последней части «Робинзона». Намеками, иносказательно, от имени своего героя, но все же вполне внятно говорит он о соединении вымысла и действительности, о символическом и непосредственном значении рассказанной им истории. Он настаивает на слове «история» (то есть событие, имевшее место реально), говорит: «Это и аллегория», — но понятия «художественный вымысел» все-таки избегает… Способ, который помогает Дефо быть правдоподобным, — это документальность, конечно лишь видимая, почти всегда поддельная и тем больше требующая умения, чтобы создать видимость документа.
Оценить место Дефо в повествовательной традиции поможет литературная параллель, проведенная им самим. Была одна книга, перед которой он преклонялся. Это «Дон Кихот», то есть «Удивительные, достославные и т. п. приключения…» «Робинзона» сравнивали с «Дон Кихотом» как выдумку. «Критик хотел оскорбить меня этим, на самом деле он мне только польстил», — говорит Дефо.
Что удалось сделать в своей книге создателю «Дон Кихота», Дефо понимал прекрасно как писатель, тем более что свои намерения Сервантес тоже изложил в предисловии, понятном каждому, кто хоть сколько-нибудь умеет читать между строк.
Сервантес описал себя, автора, как он сидит с пером в руке над завершенной рукописью и не знает, выпускать ее в свет или нет. В чем задержка? Автор не убежден, что ему поверят. Дело в том, что он «сам выдумал» Дон Кихота, между тем как автор должен был только «передавать правдивые истории». Шекспир в конце концов в этом смысле не «написал» ни одной пьесы, он только «переделывал» старые. А Сервантес заявляет, что Дон Кихот — дитя его вымысла и что в то же время это правда.
Если посмотреть первые страницы «Дон Кихота», то станет видно, как в самом деле вчитывался в эту книгу автор «Робинзона Крузо», как он ей следовал, причем иногда даже до такой степени, которую можно счесть подражанием. «Говорили, — пишет, например, Сервантес о своем герое, — что назывался он Кихада или Кесада, но, по наиболее вероятным догадкам, имя его было, кажется, Кихана». «Я был назван Робинзоном Крейцнером, — скажет своим чередом герой Дефо, — но англичане по своей привычке коверкать слова…» — и дальше следует нам уже известная игра с именем Крузо. Это именно «игра», умелая и серьезная литературная игра в правдоподобные детали ради достижения цели, о которой в «Дон Кихоте» сказано: «Впрочем, все это неважно, главное, чтобы рассказ ни на шаг не отдалялся от истины».
Дальше, однако, пути Робинзона и Дон Кихота, а точнее, Сервантеса и Дефо, расходятся. «Ваше сочинение, — говорит в предисловии к „Дон Кихоту“ друг автора, с которым автор, как видно, согласен, — имеет целью разрушить доверие, которым пользуются рыцарские книги». А Дефо пишет в ту пору, когда доверие к «рыцарским книгам» и вообще ко всяким книгам, если только они не поучительны и не достоверны, уже подорвано и это доверие надо, напротив, восстанавливать.
«В этой книге нет и капли вымысла», — скажет Дефо в своем предисловии от «редактора». Он убеждает читателя, что все «правда», и не решается в отличие от Сервантеса заявить, что «правду» эту он создал.
Дефо, разумеется, не первому из английских писателей пришла мысль писать правдиво и просто. «Произведения художественной литературы, которые особенно нравятся нынешнему поколению, — это, как правило, те, что показывают жизнь в ее истинном виде, содержат лишь такие происшествия, что случаются каждый день, отражают только такие страсти и свойства, что известны каждому, кто имеет дело с людьми», — писал Сэмюэль Джонсон в середине XVIII столетия, подводя итоги развития английской прозы за полвека. «Правда» против «вымысла» — это, собственно говоря, основной стимул движения литературы нового времени, реакция на средневековый рыцарский роман и поэзию, полные чудес, фантазии, небывальщины. И это не значит, конечно, что в этих произведениях содержалась «неправда» в бытовом смысле слова. Задачи такой не ставилось — отражать обыденность. Напротив, творец создавал что-то совсем непохожее на «каждый день». Еще в шекспировскую эпоху не очень-то увлекались «правдой». Публика из самых разных слоев общества предпочитала невероятное, чрезмерное, потрясающее, героическое и вместе с тем освященное ореолом предания как нечто, что «было». Пуританская традиция, которая становилась в английской духовной жизни господствующей, все это отвергала. И если учесть, сколько же из предшествующей литературы с этой позиции нужно было отвергнуть, как «вымысел» и «вред», то получалась фактически художественная литература как таковая, которая и обозначается по-английски словом «вымысел» (fiction). Пуритане преследовали театр, не признавали романов. Читали Священное писание, а также литературу деловую, документальную, «достоверную». Но потребность в «художественном» тоже брала свое. Развивался новый роман.
Еще в шекспировскую эпоху было в известной степени уже написано то, что напишет в самом деле Дефо. Не только мир дальних странствий был освоен писателями способом «приключений», но мир близлежащий, будничный, мир улиц, мастерских, кабаков, само «дно», — литература затронула все, о чем можно было бы написать, что могло бы стать Литературой. Второстепенные литераторы шекспировской эпохи начали присматриваться к городскому люду: в английской драме и прозе появились ткачи, башмачники, мелкие торговцы, появились также и некие «без гроша за душой» — предки персонажей Дефо. Были намечены судьбы и лица среди тех, кто если и выходил на сцену в драмах Шекспира, то толпой.
Существенно, что Дефо о предшественниках знал. На его забытых страницах историки литературы обнаружили свидетельство того, что ему был известен один малозаметный прозаик шекспировской поры[18]: уменьшенный Дефо, модель Дефо, предвосхищающая его свойства, за исключением дарования. Этот автор, как и Дефо, из ремесленников, писал о ремесленниках, преисполненный гордости за свое сословие. Просвещенные литераторы над ним посмеивались, как, впрочем, будут посмеиваться над Дефо. Обращал ли внимание на него Шекспир, мы не знаем, но, чтобы представить себе, как мог он смотреть на такого собрата по перу, надо вспомнить самые смешные сцены «Сна в летнюю ночь»: ткач, плотник и другие мастера-профессионалы, они же актеры-любители, ставят спектакль. Заботясь больше всего о наивном правдоподобии, они не соблюдают основных законов искусства, — с точки зрения Шекспира, эта среда еще как бы не созрела для искусства, поэтому все, что ни пытаются изобразить старательные лицедеи, оказывается вне пределов творческой естественности, которая служила Шекспиру мерой артистизма.
Действительно, минул еще целый век, прежде чем Дефо подвел итог ранним и слабым усилиям своих предшественников. Нет, не Дефо первым решил писать «правдиво и просто». Едва ли не каждый прозаик его поры говорил о том, что стремится «представить людей такими, каковы они есть». Но именно Дефо был первым состоятельным, то есть последовательным до конца, создателем простоты. Он осознал, что «простота» — это такой же предмет изображения, как и любой другой, как черта лица или характера. Разве что наиболее сложный для изображения предмет.
Поэтому известную трудность создания «простоты и правдивости» он слагает с себя. Пишет он, конечно, роман, но вообще романом в его времена считался «неподдельный рассказ о занятном приключении». «В последнее время публика привыкла к романам», — говорит Дефо, намереваясь привлечь внимание «историей подлинной жизни», которая, однако, превосходит по «удивительности» (так он говорит) любой вымысел.