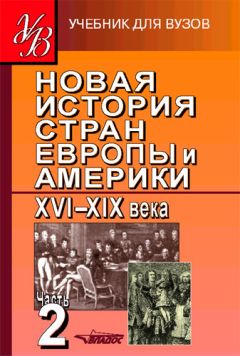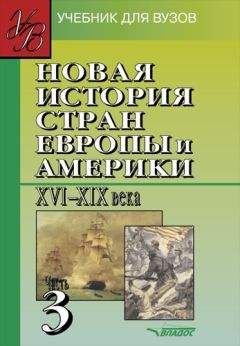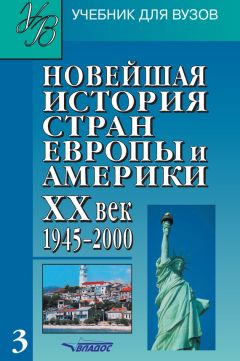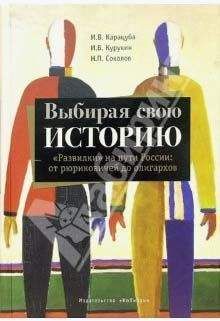Коллектив авторов - Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX века. Часть 1
Небезынтересен также вопрос о соотношении внутренних и внешних источников финансирования индустриализации. Отток и перевод ресурсов из Индии в Великобританию в течение двух-трех десятилетий до начала и во время «промышленного рывка» мог обеспечить (в случае их производительной реализации) соответственно 40–45 и 20–25 % всех чистых внутренних капиталовложений королевства. Существенен был также трансферт капитала из Франции и Голландии: в 1790-х – начале 1800-х гг. он был эквивалентен примерно 1/3 британских внутренних нетто-инвестиций. Отмеченные вливания облегчали многие проблемы, в том числе связанные с финансированием государственного долга, бюджета и немалых военных расходов Великобритании. Однако эта страна оставалась в целом чистым экспортером капитала. Его относительные размеры, составлявшие в 1761–1845 гг. в среднем 1/5–1/4 общего фонда нетто-сбережений, достигли в 1846–1870 гг. 2/5 и в 1871–1913 гг. – почти 3/5. В результате примерно с середины XIX в. доля чистых инвестиций в ВВП Великобритании стала постепенно сокращаться, опустившись в 1891–1913 гг. до уровня 3,5 %. Повышавшаяся доля фонда амортизации могла только компенсировать это падение. Став крупнейшим заимодавцем и экспортером капитала, «мастерская мира» обескровливала свою внутреннюю экономику: в конце XIX – начале XX в. общая норма капиталовложений в этой стране (около 9 %) была намного меньше, чем у других промышленно развитых держав (в США и Германии – 22–23 % их ВВП).
Франция в период ее «промышленного рывка» была также чистым экспортером капитала (его вывоз был эквивалентен в 1820–1869 гг. примерно 18–20 % национальных чистых сбережений, в 1870–1890 гг. – 11–13 и в 1891–1913 гг. – 33–35 %).
В ходе революционных и наполеоновских войн часть ресурсов, экспроприированных у других европейских государств, была, по-видимому, аккумулирована и материализована в производственных фондах, создавших базис для последующей индустриализации. Германия, много потерявшая в ходе наполеоновских войн, впоследствии оказалась вынужденной привлекать иностранный капитал, главным образом в период, предшествовавший ее «промышленному рывку» (до середины XIX в.). Существенной финансово-экономической «подпиткой» германской индустриализации были контрибуция и территориальные приобретения, полученные в результате франко-прусской войны. Но в целом Германия, начиная со второй половины XIX в., была чистым экспортером капитала, вывоз которого достигал в среднем 11–15 % ее национальных сбережений.
В отличие от перечисленных государств, Италия и США оказались на этапе «промышленного рывка» в положении импортеров капитала. Его размеры достигали в Италии в 1895–1938 гг. 30–35 % чистых внутренних капиталовложений (в 1861–1894 гг. – 15–20 %). США в 1815–1914 гг. активно привлекали иностранный капитал. По оценкам, его общий объем возрос в 1820–1914 гг. более чем в 80 раз и достиг к началу Первой мировой войны 7,1 млрд дол. Это государство было тогда крупнейшим должником в мире. Но ввиду значительных масштабов национальной экономики размеры обязательств США другим странам были эквивалентны примерно 1/5 их ВНП. Что касается доли чистого притока иностранного капитала в финансировании нетто-инвестиций, то этот индикатор не превышал в целом 12–14 % в 1800–1840 гг. и 7–9 % в 1840–1890 гг.
Таким образом, роль внешнего финансирования экономического роста (за исключением некоторых малых и средних стран) в период «промышленного рывка» была относительно невелика. Однако на предмодернизационном этапе, который охватывает 20–30 лет до начала индустриализации, внешний финансовый и технологический импульс был весьма важным стимулирующим фактором, во многом определявшим траекторию последующей хозяйственной эволюции.
Вклад экспорта в увеличение ВВП на стадии индустриализации был также весьма весомым. Он достигал в Великобритании в 1780–1800 гг. 37–39 % (с учетом изменения условий торговли 43–45 %), во Франции в 1850–1869 гг. 39–41 (35–37 %), в Германии в 1850–1870 гг. 42–44 (39–41 %), в Японии в 1900–1913 гг. 45–47 % (44–46 %). Таким образом, в период «промышленного рывка» за счет роста экспорта в Великобритании, Франции, Германии и Японии было получено не более 25–30 % увеличения их ВВП, а в США и Италии – 7–8 и 5–7 %. Но если сопоставить соответствующие данные XVIII в. и последующего столетия, можно обнаружить, что ускорение общеэкономического роста – с 0,5–0,7 до 1,8–2,2 % в год (в Западной Европе – с 0,5–0,7 до 1,6–1,7 %) – было лишь отчасти связано с увеличением прямого эффекта (вклада) внешнего спроса – с 4–5 до 12–14 % (в Западной Европе – с 4–5 до 22–23 %). Иными словами, вопреки весьма распространенным представлениям, ускорение экономической динамики на этапе промышленного переворота было преимущественно (в четверке крупных западноевропейских государств – на 2/3, а в целом по Западной Европе, США и Японии – на 5/6) вызвано развитием внутреннего рынка этих стран.
В отечественной и зарубежной литературе встречаются суждения о якобы существенном вкладе колониальных и зависимых стран (как импортеров готовой продукции) в индустриализацию ныне развитых государств. Это явное преувеличение. Судя по имеющимся оценкам, в XIX в. не более 6–14 % всей продукции обрабатывающей промышленности стран Запада и Японии (составлявшей 2–3 % их ВВП) реализовалось в периферийных странах, а в 1899–1938 гг. – соответственно 5–8 и 1,5–2,5 %. Однако для некоторых западноевропейских государств, включая Великобританию, эти показатели на отдельных этапах развития были, быть может, в 1,5–2 раза выше, что, возможно, и явилось основой указанных суждений. Таким образом, рынки стран Востока и Юга служили важным, но дополнительным источником увеличения экспорта для большинства будущих капиталистических держав и вряд ли могли коренным образом повлиять на ход их индустриализации.
В целом, можно сделать вывод, что экономическое развитие в период промышленного переворота носило, вопреки еще встречающимся в литературе суждениям, преимущественно экстенсивный характер, поскольку за счет количественных затрат производственных ресурсов было получено в среднем 60–65 % прироста их ВВП (вклад труда – примерно 28–30 %, физического капитала – 18–20, используемых природных ресурсов – 15–16 %). На долю интенсивных факторов приходилось соответственно 35–40 %. С учетом уменьшения продолжительности рабочего времени (часов) этот показатель, возможно, был несколько выше – 43–47 %.
В странах более ранней модернизации (Великобритания, Франция) и США (осуществлявших крупномасштабное инфраструктурное строительство, а также широкое освоение богатых природных и иных ресурсов) относительный вклад качественных составляющих роста (26–34 %, или по уточненной оценке 31–40 %) был ниже, чем в среднем по Германии, Италии и Японии (соответственно 40–54 и 48–62 %). При всей условности этих расчетов можно предположить, что в целом рост эффективности в период индустриализации примерно на 1/5 был связан с изменением в отраслевых пропорциях распределения рабочей силы и физического капитала, на 1/4 – с ростом качества основных фондов (повышением доли активных элементов производственных активов) и более чем наполовину – с улучшением качества человеческого фактора производства.
Итак, в эпоху промышленного переворота произошли кардинальные сдвиги в структурах производства и национального богатства, позволяющие говорить о становлении качественно нового типа хозяйственной эволюции – индустриального экономического роста. За XIX век совокупный продукт ведущих западных стран вырос почти в 10 раз, в том числе на душу населения – в 3,3–3,7 раза. Это означает, что по сравнению с первыми восемью столетиями второго тысячелетия средний темп изменения подушевого дохода увеличился на порядок. Возникла и сформировалась индустриальная цивилизация. Прогресс был достигнут как на основе расширения и углубления внутренних конкурентных рынков, так и в результате интенсификации внешних взаимосвязей стран, создания мирового капиталистического хозяйства. Вклад фактора эксплуатации периферии в осуществление индустриализации ныне развитых государств был в целом, как показывает анализ, существенно меньше, чем считают некоторые леворадикальные ученые.
Стоит отметить и тот факт, что понятие «промышленный переворот» не вполне оправдывает свое название. В период промышленного переворота производство в новых отраслях увеличивалось сравнительно высокими темпами, и на этой основе сложился миф о феноменальном росте индустриального сектора в прошлом столетии. В самом деле, если в 1700 (1730)–1760 гг. среднегодовые индикаторы прироста продукции и черной металлургии и хлопковой промышленности Великобритании составляли 0,3–0,6 и 1,4–1,8 % соответственно, то в 1760 (1780)–1830 гг. они достигли уже 4–5 и 6–8 % (что привело к значительному удешевлению некоторых товаров, в частности, цены на хлопковые ткани в 1790–1850 гг. понизились более чем в 60 раз).
Возможно, ввиду своей относительной доступности эти и подобные им показатели по современному сектору индустрии широко использовались различными исследователями при конструировании индексов промышленного производства. Однако они в целом оказывались, как правило, завышенными, ибо, во-первых, нередко базировались на данных о потреблении сырья, материалов и энергии, а также валовых показателях. В то же время промежуточные затраты, как известно, росли обычно на начальной стадии индустриализации опережающими темпами по сравнению с выпуском конечной продукции.