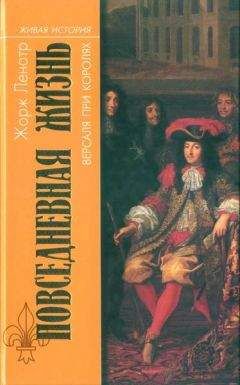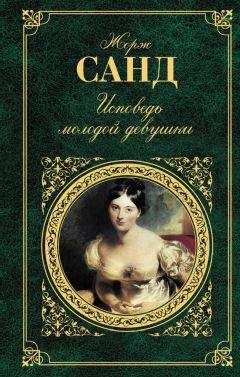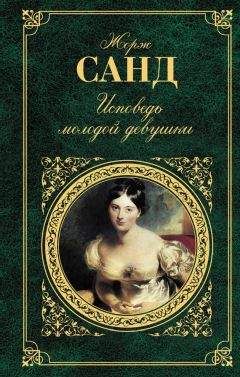Жорж Ленотр - Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции
Недели, предшествовавшие Термидору, были тягостны ему и его хозяевам. Один Дюпле чувствовал себя вполне счастливым: он достиг своей мечты и стал чем-то! Благодаря прекрасным связям, он получил назначение судьи при Революционном трибунале и воображал, что ему действительно позволят судить. Кроме того, он снова занялся делами и выхлопотал себе подряд на исполнение столярных работ в Тюильри: внимательно просматривая счета Конвента, мы видим, что он получил довольно крупные суммы. Но, главное, он приобрел положение среди политиков и дружбу видных деятелей. Тем, кто восхищается его благодушием и добротою, можно напомнить о письме, полученном им из Люна от Колло д’Эрбуа. Да, Дюпле стал теперь достаточно важной персоной для того, чтобы члены Конвента не пренебрегали перепиской с ним. Письмо это, очевидно, было написано не с целью раздосадовать его:
«Мы воодушевили вновь республиканское правосудие, то есть правосудие быстрое и ужасное, как воля народа. Оно должно, как молния, обрушиться на изменников и оставить от них лишь пепел. Разрушая непокорный, покрывший себя позором город, мы тем самым укрепляем все остальные города. Уничтожая негодяев, мы тем самым защищаем жизнь целых поколений свободных людей. Вот каковы наши принципы. Мы разрушаем, что можем, не жалея ни мин, ни пушечных снарядов, но ты понимаешь, что среди населения в полтораста тысяч человек этот способ действия встречает много препятствий. Под ударом народного топора пало двадцать голов заговорщиков, но это не устрашило их… Мы создали комиссию, быструю, как совесть истинного республиканца, судящего изменников: шестьдесят четыре заговорщика были расстреляны вчера, на том самом месте, откуда они стреляли в патриотов. Сегодня казнят еще двести тридцать… Этот великий пример подействует на колеблющиеся города. Там встречаются люди, одержимые ложной и нелепой чувствительностью: наши же чувства целиком принадлежат Отечеству!»[43]
Таким образом, дом Дюпле, прежде тихий и оживленный лишь играми детей и смехом молодых девушек, сделался своего рода революционным центром и, казалось, привлекал к себе взоры и мысли всех. Летели квартала, проходя мимо, бросали беглый взгляд на темный навес. Заключенные, в ожидании смерти, из глубины темниц призывали на него небесный огонь. В самых отдаленных провинциях Франции его образ являлся во сне проконсулам, и они спрашивали себя: «Как-то думает об этом повелитель?» Для всей Франции этот дом был устрашающим, ненавистным, проклятым местом, откуда исходил террор.
Второй этаж дома Дюпле:
1 — комната барышень Дюпле; 2 — детский сад; 3 — сад монахинь; 4 — комната; 5 — комната Дюпле; 6 — площадка лестницы; 7 — кабинет; 8 — комната Робеспьера; 9 — комната сына Дюпле; 10 — комната Симона Дюпле; 11 — двор с садом; 12 — навес сарая; 13 — отхожее место; 14 — апартаменты Огюстена и Шарлотты Робеспьер.
4. Развязка
Я возбуждал, вероятно, удивление швейцара и жильцов дома № 398 по улице Сент-Оноре, часто заглядывая в это мрачное и ничем не примечательное с виду здание. Пройдя через его ворота, я попадал в маленький, узкий дворик, куда никогда не заглядывало солнце. Налево до сих пор можно видеть дверь, которая вела в апартаменты Шарлотты и младшего брата Робеспьера. С той же восточной стороны стоит флигель, где жил Максимильен. Теперь это здание надстроено на несколько этажей. Вот уже видны широкие и низкие окна его маленькой квартирки.[44] Правого флигеля, где находится теперь швейцарская, тогда вовсе не существовало. Его построили на месте навеса, под которым столяр хранил дерево, в 1811 году, когда дом был куплен ювелиром Рульи.
Дом Дюпле в глубине двора существует до сих пор[45], но также надстроен на четыре этажа. При этом два нижних этажа остались без изменений. Правда, первая комната, бывшая раньше столовой, превратилась в своего рода коридор, разделенный перегородками, по которому беспрестанно пробегают рабочие из соседней булочной. Но лишь только войдешь в садик барышень Дюпле, покрытый теперь стеклянной кровлей, как появляется возможность разглядеть бывший салон, превращенный в склад муки. В общих чертах он совершенно не изменился.
Впечатление от созерцания предметов может быть разным: есть люди, которых старая стена восхищает куда больше, чем новый дворец. Развалина, мимо которой все проходят равнодушно, имеет чарующую прелесть для человека, стремящегося разбудить спящие в ней воспоминания и возродить прошлое. Вот почему я так часто приходил в эту комнату, бывшую когда-то салоном Дюпле.
Стены, потолок, пол — все здесь бело, все покрыто матовым и бархатистым белым налетом разлетающейся муки. При мягком свете горящих ламп здесь появляются белые, нежно очерченные тени. Углы, своды, карнизы кажутся округлыми и бархатистыми, как в снежных фотах, которые проводники показывают туристам в ледниках Шамони. Эта обстановка кажется созданной для привидений, и какие призраки являются здесь нашему воображению! Здесь, в этом простенке, висел прекрасный портрет Робеспьера, написанного во весь рост Жераром[46]. У этого камина напротив окна загадочный трибун часто стоял, погруженный в свои мечты; сидя вокруг своей матери, здесь шили барышни Дюпле; в расставленных по комнате тяжелых креслах, крытых красным утрехтским бархатом, сидели Камилл Демулен, Кутон, Сен-Жюст, Давид, Леба, Прюдон, Мерлен де Тионвилль, Колло д’Эрбуа, Ларевельер-Лепо. Эти белые стены видели всех этих людей, слышали их речи о свободе, родине, счастье человечества; здесь стоял клавесин, на котором играл Буонарроти, и все слушали его, затаив дыхание. Робеспьер часто раскрывал книгу и читал какой-нибудь отрывок Корнеля или Расина. Леба играл на скрипке или пел романсы… И, если внезапно воцарялось молчание, это значило, что издалека с улицы донесся монотонный голос разносчиков, продававших «Полный список заговорщиков, получивших выигрыш на лотерее гильотины».
Что касается Дюпле, то он млел от гордости: сознавая всю важность своей роли, он ревниво и преданно заботился о своем госте и чувствовал свою ответственность за него перед человечеством. До сих пор в углу дома на улице Сент-Оноре есть старая дверь, сделанная из прочного дерева; в ней проделана узкая калитка, закрытая железной решеткой с массивными задвижками. Рассматривая ее, можно заметить с внутренней стороны громадный замок, снабженный предохранительным засовом. Это был вход в жилище Робеспьера. Лестница на второй этаж была уничтожена в 1811 году, когда здесь устроили печь для булочной, помещающейся в соседнем доме. [47] Налево, вслед за маленькой уборной, шла комната Неподкупного; направо был вход в спальню супругов Дюпле, а за ней располагалась комната их дочерей. Обе эти комнаты сохранились в том виде, в каком они были в эпоху революции. Те же двери, те же зеркала в рамах стиля Людовика XVI, та же мебель, тот же паркет. В комнате барышень Дюпле сохранились следы элегантности. Окно ее выходит в бывший сад, а в глубине помещается альков работы отца семейства с двумя поставцами по бокам. Здесь Элеонора, без сомнения, часто мечтала о счастье. В этом алькове она засыпала, вспоминая речи своего жениха и воображая себя королевой Франции! Вероятно, сюда, в эту уединенную комнату, забились бедные девушки в день, когда телега повезла на эшафот Робеспьера и его друзей. Отсюда они прислушивались к реву беснующейся толпы, остановившей кортеж и окропившей кровью зарезанного быка дом, где жил тиран. Невольно поддаешься печальному настроению, когда рассматриваешь этот альков, в котором, несмотря на всю его ветхость и покрывающую его пыль, сохранилось что-то кокетливое и юное. Вспоминается душная ночь термидора, последовавшая за казнью; видишь Елизавету и Элеонору, одних в опустевшем доме[48]; отец их в тюрьме Плесси, мать — в Сент-Пелажи. Представляешь себе, как сестры, обнявшись, бросились на кровать, стараясь заглушить свои рыдания и оплакивая одна мужа, а другая жениха… Какие драмы видел этот старый дом!
Мать больше не вернулась в него. Предполагают, хотя ни один документ не подтверждает этого, что во время волнения, охватившего тюрьмы при вести о падении Робеспьера, заключенные, узнав, что госпожа Дюпле была домохозяйкой павшего диктатора, ворвались в одиночную камеру тюрьмы, где она содержалась, набросились на нее, задушили и повесили на оконном крюке. Достоверно известно лишь то, что она погибла во время этого волнения, но пала ли она жертвой убийства, или самоубийства, мы не знаем[49].
Несколько дней спустя ювелир Рульи, открывая ставни своего магазина, заметил, что дверь дома осталась закрытой; задами пробрался он во двор и постучался в квартиру Дюпле. Обе сестры исчезли. Через пару недель после этого молодая, одетая прачкой женщина с шестимесячным ребенком на руках явилась в меблированный дом, где проживал Сен-Жюст[50], и спросила дочь хозяина дома, чтобы поговорить с нею по секрету. Эта прачка была не кто иная, как Елизавета Дюпле, вдова Леба. Она переменила имя и зарабатывала на хлеб себе и своему ребенку, стирая белье на речных барках, служивших прачечными. У нее не осталось от мужа ни наследства, ни даже его портрета: она молча боготворила его память. Но она знала, что незадолго до катастрофы эта молодая девушка набросала пастелью портрет Сен-Жюста, и она сгорала желанием приобрести этот портрет, чтобы он напоминал ей о верном и любимейшем друге Леба. Художница, сама впавшая в нищету, попросила за портрет десять луидоров. У гражданки Леба такой суммы не было. Она спасла от секвестра лишь один сундук, где лежали ее венчальное платье и голубой фрак Леба, который был на нем в день их свадьбы. Она предложила в уплату за портрет эти реликвии — все, что она имела. Обмен состоялся: следующей ночью бедная вдова принесла свои платья и получила желанное сокровище.