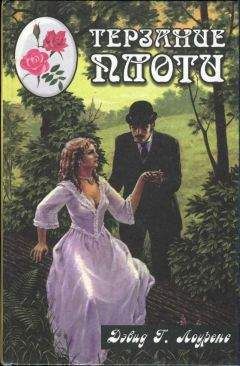Дэвид Пристланд - Красный флаг: история коммунизма
СССР столкнулся со всеми этими задачами в период, когда «идеологическая готовность» населения, как это называется в официальном жаргоне, была в плачевном состоянии. Наибольшую опасность для ценностей режима представлял военный опыт советских солдат. Некоторые из них воевали в партизанских отрядах, где привыкли к определенной степени равенства и самостоятельности. Но важнее было то, что миллионы солдат побывали на Западе и подвергали сомнению официальную пропаганду. Замполит, который имел дело с репатриацией советских граждан, искавших убежище в нейтральной Швеции, рассказывал, что «после того, как они увидели безмятежную жизнь [в Швеции], некоторые наши возвращенные на родину [граждане] делали неправильный вывод о том, что Швеция — богатая страна и люди там живут хорошо». Некоторые даже утверждали, что как к военнопленным к ним лучше относились и лучше кормили, чем это было в Красной армии. Неудивительно, что Сталин подозревал всех военнопленных в антисоветском мышлении и по возвращении домой многие были сосланы в ГУЛАГ[531].
В условиях ухудшающихся отношений с Западом и напряженности в СССР сталинисты ввели режим, который усиливал неприкрытое насилие довоенного порядка и основывался на патриотической, а не классовой мобилизации. Речь, которую Джордж Кеннан воспринимал как атаку на Запад, весной 1946 года положила конец либерализации времен войны{690}. Теперь нужно было мобилизовать всю страну на реконструкцию экономики. Проблемы нехватки рабочей силы решались за счет увеличения объемов принудительного труда по сравнению с теми же объемами в период войны. Около 4 миллионов учащихся в возрасте от 14 до 17 лет, в основном из сельской местности, были приняты на заводы, где работали только за питание и проживание{691}. Большой вклад внес ГУЛАГ — огромный «архипелаг» трудовых лагерей, большинство из которых находилось в глухой Сибири. Труд заключенных сыграл важную роль в экономике в 1930-х годы, но система стала работать гораздо эффективнее под руководством Лаврентия Берии, главы НКВД в период после террора. Тюремная система, в которой в 1947 году содержалось около 5 миллионов человек, обеспечивала около 20% рабочей силы в промышленности и давала более 10% промышленной продукции СССР[532].{692} Однако Сталин заблуждался в своей твердой вере в экономическое значение лагерей: они были крайне неэкономичны и непродуктивны, даже с учетом того, что условия были ужасны и с заключенными обращались грубо. Конечно, по сравнению с серединой 1930-х годов ГУЛАГ был технократически лучше организован, но вряд ли это было разумным способом управления экономикой. В своей блестящей зарисовке одного из директоров ГУЛАГа, Калдымова, работавшая в сибирском совхозе во время войны Евгения Гинзбург привела яркий пример, как из технократии и веры в сталинскую иерархию рождалась чрезмерная жестокость. Калдымов, сын крестьян, оказался в выгодном положении при межвоенной социальной мобильности и стал преподавателем диалектического материализма, но досадный семейный скандал заставил его переехать в Сибирь. Тем не менее в глазах своего начальства он был хорошим директором:
«…судя по выполнению плана, он хорошо поработал в совхозе в тайге, используя заключенных в качестве рабочей силы… [Он] привык управлять своим предприятием, вести интенсивную работу и полагаться на подневольный труд и быстрый оборот “отработавшего свое контингента”.
Он совершенно не замечал своей собственной жестокости… Взять, например, его диалог с Орловым, нашим зоотехником, подслушанный одной из работниц, которая раскидывала навоз у молочной фермы:
— Что с этим зданием? Почему оно пустует? — спросил Калдымов.
— Там были быки, — ответил Орлов, — но нам пришлось перегнать их в другое место. Крыши протекают, на карнизах лед, так что держать там скот небезопасно. Мы отремонтируем как следует.
— Не стоит тратить деньги на кучу старого хлама. Лучше всего поселить туда женщин.
— Что вы говорите, товарищ директор? Ведь даже быки не выдерживали здесь и болели!
— Да, но это быки! Без сомнения, рисковать быками мы не станем!
Это не было ни шуткой, ни остротой, ни даже садистской насмешкой. Это просто было глубокое убеждение хорошего хозяина, что быки были основой жизни в совхозе, и только крайняя опрометчивость Орлова побудила его рассматривать их наравне с женщинами-заключенными.
При всем своем оптимистическом свинстве, твердой вере в устойчивость и непогрешимость догм и цитат, которые он выучил наизусть, Калдымов, я думаю, удивился бы, если бы кто-либо в лицо назвал его рабовладельцем или управляющим рабами.
Лестница Иакова, на низших ступенях которой находились заключенные и ближе к верху — Умный и Великий, где-то посередине — официальные кадры, такие как директор совхоза, казалась ему необратимой и вечной. Его твердое убеждение в неизменности мира с его иерархией и принятыми ритуалами чувствовалась в каждом его слове и жесте»{693}.
Учитывая такое отношение к заключенным, нет ничего удивительного в том, что миллионы умирали от голода и переутомления. Цифры остаются неопределенными: по данным официальных архивов, 2,75 миллиона погибших в лагерях за всю сталинскую эпоху, безусловно, число заниженное[533].{694}
На обычных заводах условия, хоть и не столь суровые, все равно были мрачными, а рабочие — намного беднее, чем до войны; цены росли, а пайки урезали в сентябре 1946 года. Во многом резким возвращался к стратегиям конца 1920-х — начала 1930-х годов, заставляя рабочих финансировать индустриализацию за счет снижения уровня жизни, однако методы сейчас были другими: руководство воздерживалось от популистских призывов, опасаясь отрицательной реакции управляющих. И хотя стахановское движение сохранилось, руководство в значительной степени полагалось на насилие. Управляющие получили более широкие полномочия, чем в 1930-х годы, а трудовая дисциплина была жесткой. Рабочие уже не могли свободно менять место работы, а любой, кто пытался это сделать, мог быть наказан за «трудовое дезертирство»[534]. Тем не менее эта система была не такой жесткой на практике, как предполагалось законодательством. Управляющие не всегда использовали свои полномочия, так как им требовалось сотрудничество с рабочими. Кроме того, не было практически никаких признаков волнения среди рабочих: они, несомненно, возмущались по поводу послевоенного иерархического порядка, но протесты были приглушены, а деморализованные рабочие и крестьяне пытались уклониться от контроля, применяя тактику медленной работы или сбегая с рабочего места{695}. В письменной жалобе, направленной в Москву, Дается представление о крайне тяжелых условиях и неравенстве в городе Водске: «В городе с самого утра все люди проводят в поисках воды, насосы не работают, мы берем воду из открытых люков… На 50 тысяч человек у нас только одна работающая баня, туда выстраиваются длинные очереди, а предназначена она только для чертовых управляющих города…»{696} Судя по этой жалобе, начало 1950-х годов было гораздо лучшим временем для боссов. Попытки полицейского контроля сдерживались, и коррупция процветала.
В 1946 году Сталин начал идеологические кампании по очистке от «отклонений» скорее среди «социалистической интеллигенции», чем антиэлиты; по содержанию они были националистическими и ксенофобными. Первыми жертвами послевоенной идеологической кампании стали два литературных журнала «Ленинград» и «Звезда» и два писателя: поэтесса Анна Ахматова и автор коротких юмористических рассказов Михаил Зощенко. В главном декрете о патриотизме в литературе в августе 1946 года главный идеолог Андрей Жданов характеризовал Ахматову как «смесь монахини и блудницы… сумасшедшая дама, которая разрывается между будуаром и часовней»; Зощенко был объявлен «вульгарным и тривиальным мелким буржуа», из которого «сочился антисоветский яд». Но главным обвинением стало то, что они, как и другие литературные деятели, скатились до подобострастия и низкопоклонства перед мещанской иностранной литературой»[535].{697} Однако именно начало холодной войны в 1947 году привело к полномасштабным патриотическим кампаниям. Для комиссий по чистке, которым было присвоено совершенно устаревшее название «суд чести» (по названию офицерских судов царского времени), были учреждены службы и отделы для «устранения лакейства перед Западом»{698}.
Эта новая культурная ксенофобия разрушала определенные сферы интеллектуальной жизни, особенно генетику с помощью пресловутого мнимого биолога Трофима Лысенко. Лысенко был родом из крестьянской семьи и не имел профессионального образования, но утверждал, что его практические крестьянские знания с лихвой компенсировали отсутствие формального образования[536]. В конце 1920-х — начале 1930-х годов он извлек выгоду из радикальной марксистской идеи о том, что ученые «из народа», вдохновленные идеологией, были лучше подготовленных специалистов. Его главным изобретением была «яровизация» — вымачивание и охлаждение семян пшеницы зимой для посева весной. Результаты не были впечатляющими, но Лысенко умело использовал политическую атмосферу того времени. Он также разработал идеологическое обоснование своего нового подхода. Не только гены, но и изменения окружающей среды могут улучшить растения — учение, которое согласовывалось с марксистскими идеями о большей важности окружающей среды, нежели наследственности (генетика была проклята[537] по ассоциации с евгеникой и нацизмом). В конце 1930-х годов Лысенко длительное время боролся с генетиками в Академии наук, но не смог заручиться политической поддержкой; Сталин тогда еще не был готов поставить экономический рост под угрозу, подчиняя научные исследования марксистским догадкам. Однако летом 1948 года, в разгар Берлинского кризиса, он был готов пожертвовать наукой ради патриотизма[538]. Сталин был полон решимости установить четкую границу между «прогрессивной» советской наукой и «реакционной» буржуазной наукой{699}. Вскоре после этого лысенковщина стала новой традицией, обусловившей упадок советской биологии на протяжении двух десятилетий.