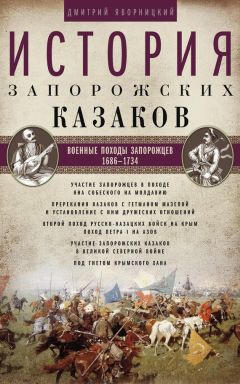Йоахим Радкау - Природа и власть. Всемирная история окружающей среды
Но и эволюционизм был в конечном счете верой, а не точно обоснованным учением. Впоследствии он утратил свои самодержавные позиции, а теории катастроф пережили второе рождение. В экологическом катастрофизме чувствуется воздействие средств массовой информации, ведь прогнозы о конце света имеют наибольшие шансы попасть в газетные заголовки (см. примеч. 37).
Однако несколько десятилетий – не такой большой срок, чтобы заносить тревожное предчувствие катастрофы в историю исключительно виртуальных страхов, а не реальных опасностей. Даже Мальтус, кассандровские предостережения которого долгое время считались опровергнутыми реальными историческими процессами, еще может оказаться правым. Критики атомной энергии сначала концентрировали свое внимание на вялотекущих опасностях: радиоактивных отходах и незначительных выбросах при нормальной работе атомных электростанций. Затем они открыли термин «сверхкатастрофа» (максимально возможная катастрофа, Super-GAU), маркировавший кульминацию дискуссий (см. примеч. 38). Затем многие годы о «сверхкатастрофе» никто не говорил – пока Чернобыль не доказал, что этот термин был далеко не фантомом!
Инертная реакция политиков на предостережения часто подвергалась критике. Однако нужно признать, что у нее есть свои причины. Часто лишь по прошествии времени можно понять, какая проблема действительно важна и какое решение эффективно. Создается впечатление, что из-за этой неясности в экологической политике явно или скрыто побеждает принцип применять преимущественно такие меры, которые в любом случае окажутся разумными и смысл которых основан не только на определенных гипотетических предположениях. Работа с невнятными рисками и неуверенными решениями сама по себе требует политического стиля, склонного к экспериментам и всегда открытого для нового опыта. Очевидно, что создать такой стиль, не впадая при этом в чистейшее отстаивание собственных интересов не так просто. Если экологическое движение хочет стать реальной властью, ему требуются особенно надежные позиции.
Для обоснований таких позиций неплохо подходят определенные катастрофические сценарии. Однако если обещанные катастрофы не наступают, этот метод бьет мимо цели. Еще одна проблема состоит в том, что как раз тогда, когда возникает реальный страх перед катастрофой, он блокирует способность думать, мысль зацикливается на несуществующих глобальных решениях. Исторический опыт учит, что особенно коварны именно те опасности, которые замечают лишь некоторые люди. Сюда относятся прежде всего угрозы, связанные с постепенными, никого не беспокоящими изменениями среды. Кристиан Пфистер на примере Швейцарии жалуется, что «население реагирует только на сенсации», и его очень трудно убедить в том, что признаки антропогенного изменения климата – «не столько учащение природных катастроф, сообщениями о которых пестрят массмедиа, сколько незаметные процессы, такие как сокращение снежного покрова в понижениях ландшафта» (см. примеч. 39). Подобное произошло и в 1980-е годы с массовыми повреждениями лесов, когда слоган «Смерть леса»[224] вызвал в воображении людей картину острой катастрофы. Эта картина отстояла от реальности так далеко, что экокатастрофические тревоги с тех пор сопровождаются насмешками. Между тем малозаметные признаки нарушений во многих лесах по-прежнему вызывают беспокойство. Действительно ли экологическому движению нужен страх перед концом света? Исторический опыт показывает, что практическая этика вполне обходится без веры в ад.
4. НАУЧНЫЕ, ДУХОВНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Если изучение истории помогает что-то понять в экологическом движении, так это то, что оно появилось не с чистого листа, не было внезапным озарением, резким переходом от наивной веры в технологические успехи к пессимизму и отрицанию прогресса. Скорее можно сказать, что в него вылилось недовольство, копившееся более 100 лет. «Синдром 50-х» можно усмотреть не только в самих экологических проблемах, но и в экологическом сознании. Уже в 1950-е годы и в США, и в Европе в жалобах на загрязнение воздуха и воды, а также на обезображивание местности и повышение уровня шума появился новый вызывающий тон, требующий фундаментальных решений, а политическое значение темы отчетливо возросло (см. примеч. 40). Только это сделало возможным тот ошеломляющий успех, который имела в 1962 году «Безмолвная весна» Рейчел Карсон.
На первый взгляд, пионером нового экологического сознания стали США – страна, которая не была отброшена назад военной разрухой и послевоенным восстановлением. Здесь просматривается та же модель, как в начале XX века: сначала безудержно совершаются экологические грехи, затем – столь же зрелищно – инсценируются контркампании. В странах Старого Света и то и другое было скромнее, здесь с давних времен думали об охране лесов и почв и даже в 1950-е годы не распыляли с самолета тонны ДДТ. В XIX веке в США отношение к железнодорожным катастрофам было более толерантным, чем в Европе. В XX веке, наоборот, американское движение за безопасность (Safety-first) стало примером для европейцев, то же самое можно сказать об охране здоровья (Health Engineer) и национальных парках в американском стиле. То, что давно знали жители «малогабаритной» Европы, американские защитники природы уяснили в 1920-х годах на примере знаменитого скандала в Кайбабе: что беспрепятственное размножение определенных видов диких животных приводит к разрушению ландшафта. Город Питсбург, в 1900 году бывший настоящим промышленным адом, в XX веке стал идеалом городского экологического санирования. После того как автомобильный смог в Лос-Анджелесе достиг катастрофических значений, Калифорния стала образцом американского экологического благоразумия (см. примеч. 41).
В Германии не было Рейчел Карсон, однако внимательный взгляд обнаружит и здесь рост экологического сознания с конца 1950-х годов, хотя и не такой заметный внешне. Уже в 1958 году специалист по охране вод обращает внимание на «широкое распространение психоза тревожности», к тому же тогда не требовалось экспертных знаний, чтобы прийти в ужас от промышленного загрязнения воды (см. примеч. 42). Но, в отличие от более позднего времени, альянс между охраной окружающей среды и концепциями общеполитических реформ еще не сложился. Охрана среды в типичных случаях скорее склонялась к консерватизму. Как не раз было в истории, проблемы были уже осознаны, но решению их мешало отсутствие дееспособной коалиции заинтересованных лиц. С мобилизацией науки в первые послевоенные десятилетия тоже возникали сложности. Наиболее авторитетным и всемирно признанным немецким защитником природы был тогда Бернгард Гржимек: безусловно, он обладал широчайшими биологическими познаниями, однако апеллировал в основном к эмоциям и чувствам и своими сторонниками считал скорее «маленького человека», чем интеллектуальную элиту.
Экологической сцене часто приписывали враждебное отношение к технике. Однако с исторической точки зрения в этих новых кругах заметен скорее интерес к технике, чем неприязнь. Выход из экологического кризиса они ищут в технических решениях, «щадящих» технологиях и повышении энергетической эффективности. Ориентиром для них служит не Герман Лёне, а скорее Эмори Ловинс![225] И еще одно: хотя критики имеют обыкновение упрекать экологов в эмоциональности, однако в долгосрочной перспективе, на фоне прежних романтиков природы, бросается в глаза ровно обратное, а именно, до какой степени экодвижение представляет себя прикладной наукой, «экологией», и с каким успехом устанавливает контакты с наукой. Первопроходцем здесь была уже Рейчел Карсон. Лишь в начале своей книги она рисует картину смерти, воздействующую на чувства читателей: гибель птиц, весеннее безмолвие вместо птичьих трелей. Новизна экологического сознания последних десятилетий состоит в том, что в центре его внимания находятся незримые угрозы, вообще не ощущаемые органами чувств и доступные только науке, – радиоактивность, риски генных технологий, изменение климата вследствие выбросов углекислого газа. Однако полностью оторваться от чувственного опыта экологическое движение тоже не может. Ядерная опасность проникла в человеческие души прежде всего с чернобыльской катастрофой, ее вполне зримыми и ощутимыми последствиями. Угроза парникового эффекта кажется особенно достоверной в аномально жаркие летние сезоны (см. примеч. 43).
Объяснить подъем экологического движения историей науки не получается. Хотя термин «экология» (по аналогии с «экономией») в 1866 году ввел в оборот ученый – Эрнст Геккель, а его книга «Мировые загадки» (1899) стала не только всемирным бестселлером, но и настоящей «библией» движения монистов[226], однако от его «экологии» к «экологии» экодвижения прямого пути не было. «Экология», развивавшаяся в период между Геккелем и Рейчел Карсон в рамках науки, была ответвлением биологии, далеким от политики и широкой публики, влачила незаметное существование в собственной нише и сама по себе никогда бы не смогла завоевать общественное мнение.