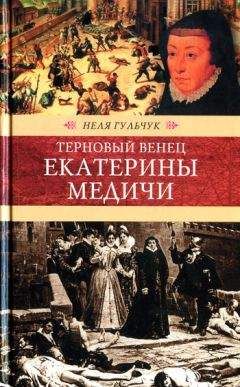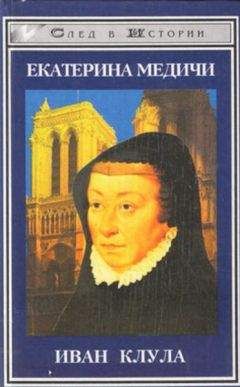Леони Фрида - Екатерина Медичи
Итак, несмотря на всю уязвимость своего положения, оба принца остались живы. Когда 24 августа их втолкнули в комнату к королю, тот заверил их: «Брат мой и кузен, не бойтесь и не волнуйтесь из-за того, что услышите. Я вызвал вас сюда сугубо ради вашей же безопасности». Оба Генриха отреклись от новой религии и на следующий же день впервые посетили мессу. Король Наваррский держался хладнокровно, Конде же, как прежде — его отец, не смог проявить гибкость и притвориться, что готов к сотрудничеству. Вместо этого он стал угрожать Карлу, говоря, что ему на помощь спешат 500 человек, чтобы спасти его и отомстить за злодеяния. Карл, охваченный яростью, выхватил кинжал и замахнулся на Конде. Затем повернулся к Наваррскому со словами: «Что же до вас, докажите свои добрые намерения, и я отплачу вам тем же». Возвращение двух принцев в лоно католической Церкви было крайне важно для Екатерины. Ведь до этого момента они по-прежнему могли считаться законными вождями гугенотов.
Спустя месяц после убийства почти всех близких друзей и соратников, 29 сентября, Генрих Наваррский и принц Конде были официально приняты в лоно римско-католической Церкви. Это произошло в соборе Нотр-Дам во время мессы в честь ордена св. Михаила, в присутствии всего двора и многих иностранных послов. Когда юные принцы склонили головы и осенили себя крестным знамением перед огромным алтарем, Екатерина, что нехарактерно для нее, утратила царственную сдержанность и разразилась хохотом. Обращаясь к послам, сидевшим рядом с ней, она стала высмеивать старание юных принцев выглядеть благочестиво. Это могло быть вспышкой нервного облегчения после напряженных прошедших недель, а может быть, и рассчитанной попыткой привлечь внимание к лицемерию принцев, вынужденных в силу обстоятельств принять веру своих врагов.
Воспоминания Генриха придают иной оттенок этим событиям, на фоне которого смешливость Екатерины выглядит преждевременной и неуместной: «Те, кто сопровождал меня в Париж, погибли во время бедствий, даже не покидая своего жилища… Можете ли вы представить скорбь, охватившую при виде тех, кто прибыл со мною, ибо я дал им слово чести, не имея других гарантий, кроме слова короля, уверившего меня, что я буду принят, как брат. Страдание мое было столь велико, что, будь я в состоянии вернуть их жизни, отдав свою, я бы сделал это, не задумываясь. Я видел, как их убивали даже в моей собственной постели, я остался один, лишенный друзей».
Разумеется, Генрих не вкладывал в эти свои слова никакой иронии, но, по сути, в доме Валуа «быть принятым как брат» означало, что пора самому заботиться о сохранении собственной жизни.
Несмотря на душевные терзания, король Наваррский на людях сумел продемонстрировать стойкое хладнокровие. Он сдружился с убийцами его лучших друзей; оставаясь пленником при дворе, он ухитрился стать душой любой компании, и ни разу истинные его чувства не просочились наружу. Он принес официальные извинения папе римскому 3 октября 1572 года и, спустя несколько дней, 16 октября, прошел через самую унизительную процедуру, восстановив в своем княжестве Беарн католичество. В отличие от резкого и невоздержанного Конде, Генрих решил выжить, проявляя гибкость и податливость, так же, как когда-то поступала его флорентийская теща.
К концу октября 1572 года «сезон Святого Варфоломея» завершился, хотя историческое эхо только-только начинало звучать. «Варфоломеевская ночь» стала не только нарицательным выражением для любого кровавого произвола властей, но и на века очернила репутацию Екатерины. Испытав в день св. Варфоломея чувство беспомощности перед лицом событий, Екатерина теперь вздохнула с облегчением, ибо королевство вроде бы снова было усмирено и отношения с иностранными государствами восстановлены. Однако она не понимала, что они были прежними лишь с виду. Ее упорное стремление всегда и во всем соблюдать внешнюю благопристойность теперь опасным образом лишало Екатерину способности трезво воспринимать реальность. Необходимо было действовать, чтобы братоубийственный террор не стал оружием врагов, обращенным против нее самое. Не сумев собраться с духом и найти вразумительное и достойное объяснение своим действиям, Екатерина позволила образу Черной Королевы прилепиться к ней и утвердиться на века. Один историк XIX века, Жюль Мишле, даже называет ее «Могильным червем из итальянской гробницы». И еще много лет памфлетисты будут трепать ее имя, искажая факты, собирая пеструю мозаику из того что действительно совершила Екатерина Медичи, и того, что лишь было приписано ей напуганной и возмущенной молвой.
В течение царствования Карл IX, из-за своей незрелости, слабого здоровья и малодушия, до такой степени находился под пятой матери, что о нем помнят почти исключительно лишь в связи с Варфоломеевской резней. Юный король остался в истории призрачной фигурой — злодеем-жертвой, сыном зловещей матери-итальянки. Макиавеллиевский «Государь», посвященный отцу Екатерины, Лоренцо II Медичи, был известен как «пособие для тиранов», и ходили слухи, будто каждый из детей Екатерины носил с собой по томику. Эти цветистые легенды выросли из неумения Екатерины справиться с религиозным кризисом и его последствиями. Гугеноты верили в то, что расправа с ними была спланирована заранее, еще во время встречи в Байонн между герцогом Альбой и «новой Иезавелью», как ее окрестили памфлетисты. И якобы именно там Екатерина и испанский посол хладнокровно договорились об истреблении французских протестантов.
Несмотря на то что гугеноты потеряли почти всех своих лидеров, на арену выступили новые люди и начали организовывать сопротивление. Подстегиваемые пасторами, протестанты стали еще злее и непримиримее, чем прежде. В южной Франции, в местах сильно развитого движения гугенотов — таких, как Ним, Монтобан, Прива и Сансер — люди запирали ворота на замки, превращая дома в крепости, чтобы защититься от нападений католиков. Самым строптивым и неблагополучным был порт Ла-Рошель на западном побережье Франции. Горожане, поставившие под ружье около полутора тысяч человек, бросили вызов режиму, когда, вскоре после ночи Святого Варфоломея, маршал Бирон — умеренный католик, спасший от смерти немало гугенотов — был назначен губернатором этой крепости и прибыл в Ла-Рошель. Горожане отказались пустить его в город. Ларошельцы запросили помощь у Елизаветы Английской, называя ее «своим настоящим монархом навек». Предметом гордости ларошельцев было то, что они превратили город в самую настоящую неприступную твердыню, причем к работающим на постройке горожанам присоединились пятьдесят пасторов, женщины и дети. В ноябре 1572 года Карл и Екатерина столкнулись с необходимостью захватить этот оплот протестантизма и приказали Бирону начать осаду города. Герцог Анжуйский, вернувшийся к командованию в начале 1573 года, прибыл туда с более чем странной армией, почти все командиры которой враждовали друг с другом.
Из-за последствий Варфоломеевской ночи армия Анжуйского теперь состояла из новообращенных католиков, а среди командования было несколько протестантов — сторонников короля. Герцога сопровождали Генрих Наваррский, Конде и герцог Алансонский, взбешенный тем, что, будучи братом короля, не имеет важной военной роли, о чем он и кричал на всех углах. В королевской армии состояло много старших офицеров, зарекомендовавших свою преданность королевскому престолу во время событий августа 1572 года. Наиболее выдающимися среди них были кузены Колиньи, сыновья старого коннетабля: старший, Франсуа, маршал де Монморанси, и его брат Анри де Монморанси-Дамвиль, губернатор Лангедока. Поскольку герцог де Гиз и его дядя д'Омаль сопровождали герцога Анжуйского, что означало возможность нового возвышения Гизов, они решили присоединиться к штурмующим Ла-Рошель и привели с собой младших членов семьи, включая Шарля де Монморанси-Мерю (младшего сына коннетабля и зятя маршала Косее) и Франсуа, виконта де Тюренна (мужа сестры Монморанси, Элеоноры). Тюренн и Монморанси-Мерю начали формировать свою группировку, собиравшуюся под крылом герцога Алансонского. Город же, тем временем, противостоял нападениям и оказывал стойкое сопротивление, отражая атаки и бомбардировки. Женщины, стоя на городских бастионах, под огнем роялистов, швыряли в солдат камнями.
Анжуйскому приходилось не только справляться с женщинами, кидающими камни, и преодолевать фанатичную защиту ларошельцев, но и терпеть непрерывную грызню и склоки среди своих командиров на протяжении суровых зимних месяцев в полевых условиях, а еще — думать о том, что вскоре ему предстоит стать королем Польши. Эта перспектива, пусть и отдаленная, теперь перестала манить его. Таванн безжалостно описал будущее королевство Анжуйского как «пустынное и ничего не стоящее, не такое большое, как говорят, и населенное дикарями». Екатерина же возразила: мол, ясное дело, маршалу «милее его навозные кучи» и продолжала, не останавливаясь ни перед чем, стараться надеть корону на голову обожаемому сыночку, рисуя перед ним самые радужные перспективы. «Поляки высоко цивилизованны и разумны, — писала она, — это доброе, великое королевство, всегда могущее приносить 150 тысяч ливров, с коими вы можете делать, что заблагорассудится». Объясняя, что не согласилась бы разлучиться с ним, кроме как для его же блага, она напомнила сыну: «Я никогда не скрывала своего горячего желания видеть тебя заслуживающим высокой доли и величия, а не держать возле себя… Я не та мать, которая любит своих детей лишь ради их самих. Я люблю тебя, потому что вижу и желаю видеть твои выдающиеся заслуги и достижения». Это последнее замечание было более чем искренним: ни одна мать в истории не старалась так сильно продвигать своих детей, чего бы им это ни стоило.