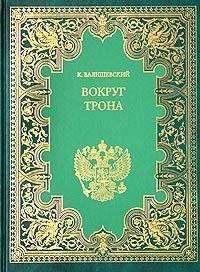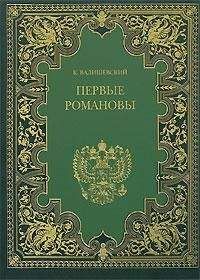Казимир Валишевский - Роман императрицы. Екатерина II
Мы не будем останавливаться на соображениях чувства и справедливости. Все знают, что в делах политических они не имеют никакого значения. Есть ли на свете хоть одна великая держава, которая сложилась бы, не разделив кого-нибудь или чего-нибудь в свою пользу? Единственным исключением из этого правила является только одно государство, и именно Польша: она никогда не присоединяла к себе чужих областей, если они добровольно не отдавались ей. Но зато это необыкновенное государство и оказалось не жизненным. «Тот, кто не выигрывает, теряет», говорила Екатерина. Держава, ничего не отнимающая от своих соседей, утрачивает свой смысл. Соседи Польши доказали ей это, взяв ее себе всю, без остатка; и доказали, без сомнения, убедительно.
Мы не станем также касаться вопроса и с принципиальной точки зрения, хотя не может не быть опасным для государства идти вразрез с принципом, который лежит в основе его собственного бытия, составляет сущность его исторического предназначения. Панславизм, говорят его приверженцы, не Просто политическое учение: его неизбежное осуществление в силу географических и этнических условий вопрос лишь более или менее отдаленного будущего. До семнадцатого века во главе славянских народностей могла стать Польша. Но она утратила эту возможность, и наследие польско-литовской монархии Ягеллонов законно перешло к России. И теперь преемники Екатерины взяли на себя роль защитников общеславянских интересов, борцов за права славянской расы и объединителей всего славянского родственного по духу. Допустим, что это так, и что и история прошлого и понимание настоящего подтверждают это нам, может быть, и неопровержимо. Но тогда как же совместить с этой панславистской программой, от которой Россия не может отказаться теперь, не потеряв значительно больше, нежели две или три провинции, — первый шаг, сделанный в 1772 году к ее осуществлению: известное число славян было тогда, правда, воссоединено (хотя они и не выражали к тому ни малейшего желания), но зато часть их, т.е. плоть от плоти своей, была отдана Россией общим врагам всей славянской расы, одному в числе 3 миллионов поляков, а другому в числе пяти миллионов? Заметим, что Галиция была населена при этом не только поляками; там были также и руссины греческого вероисповедания, настоящие русские, по современному этническому определению. И они до сих пор принадлежат Австрии, несут на себе немецкое иго, и никто не думает о том, чтобы освободить их. Даже софийские славяне, — болгары, а не русские, — и те оказались в этом отношении счастливее.
Но не будем настаивать на этой стороне дела. Есть другая, которая еще ярче обрисовывает его.
Увеличенная на треть Польши, Россия, несомненно, представляет могущественную державу. Но она была могущественна и до 1772 года, и имела зато более удобных соседей. Бессилие Пруссии, когда во главе ее стоял сам Фридрих, против России, когда ею управляла только Елизавета, было доказано Семилетней войной. Русский генерал спокойно, как на прогулке, вошел тогда в Берлин. А такая выходка вряд ли была бы теперь возможна. Другой русский генерал тоже едва не въехал победоносно в Константинополь. Сейчас же путь из Петербурга в столицу Турции очень удлинился: он проходит через Вену, и одним из главных преткновений на нем и служат именно те 7 миллионов славян, отданных в 1772 и следующих годах Габсбургской монархии.
Это еще не все. Положение вещей в Польше до первого раздела было таково, что естественно давало России верховную власть над ней, власть, которая, если бы и не привела рано или поздно к мирному присоединению всей Польши к России, как то полагают многие историки, — то во всяком случае стоила такого присоединения. Когда государство имеет возможность навязывать по собственному выбору для соседней страны правителя вроде какого-нибудь Понятовского, то ясно, что независимость опекаемого народа становится чисто фиктивной. Уже Петр I мог взять себе в окрестностях Вильны или даже Варшавы любую землю, какую бы пожелал. Но он устоял против искушения, сознавая, что тот народ, которым он был призван управлять, должен уметь ждать. Екатерина не поняла этого в 1772 году. Может быть, тут сказалось в ней ее происхождение. И она отнеслась к вопросу, как мелкая принцесса Цербстская или как ребенок, которому показали лакомый кусочек. «Груша была еще не зрелой», по выражению французской поговорки, но это не остановило Екатерину; аппетит ее все разгорался. Фридрих еще больше возбуждал его в ней: она решила попробовать грушу сейчас же, чуть не сломала о нее свои зубы и в конце концов должна была разделить ее с другими.
Что же касается того, кому именно принадлежала идея раздела и по чьему настоянию она была приведена в исполнение, то, во-первых, вопрос этот кажется нам довольно второстепенным, а, во-вторых, благодаря множеству уже давно опубликованных документов, совершенно ясным. Русское Историческое общество напечатало в одном из своих Сборников (LXXII) донесения прусских посланников при Петербургском дворе; но, на наш взгляд, они не дают ничего нового. И прежде было известно из Записок Фридриха, что он посылал в 1769 году в Петербург проект раздела Польши, составленный графом Линаром. Вот где была первоначальная идея раздела, и факт, что в издании Записок 1805 года строки о проекте Линара были пропущены, ясно показывает, что в Берлине понимали все историческое и политическое значение этого документа. Но зато из другого, тоже достоверного источника мы знаем о совещании, происходившем в Петербурге еще задолго до приезда графа Линара, а именно в 1763 году; на нем председательствовала сама императрица. Граф Захар Чернышев развивал тогда в совете мысль о необходимости воспользоваться первым удобным случаем, например, смертью польского короля, которой тогда все ожидали, чтобы захватить у Польши стратегическую линию Двины, от Полоцка до Орши. Итак, ясно, что Петербург опередил Берлин. Но какая цена этому доказательству? Даже поверхностное знакомство с политическими веяниями той эпохи, с проблемами, занимавшими правительственные сферы в начале восемнадцатого века, и с теми дипломатическими тайнами, которые по справедливости можно было назвать секретами полишинеля, показывает, что ни Фридриху в 1769, ни графу Захару Чернышеву в 1763 году не приходилось напрягать своего воображения, чтобы породить идею… уже давно бывшую достоянием всех. Раздел Польши? Да ведь все о нем говорили после смерти последнего Ягеллона, скончавшегося в 1572 году. Весь вопрос сводится, значит, к тому, чтобы установить, кто сделал первый шаг и первый поднял руку на чужие владения. Была ли то Екатерина? Или Фридрих? Нет, ни он, ни она, — это тоже вполне точно установлено историей. Сделал это третий хищник — Австрия.
С первого же часа своего царствования, как только она вступила на престол, Екатерина начала заигрывать насчет Польши со своим другом, прусским королем. Положим, она писала в то же время графу Кейзерлингу, представителю России в Варшаве: «Скажите моим друзьям и врагам, что я императрица всероссийская, и что никакая другая воля не может идти наперекор моей, если я чего захочу». Это был тон, котором и следовало говорить преемнице Петра I, на берегах Вислы; но рядом с этим она с нетерпением побуждала Фридриха принять участие в ее игре, чего Петр I, наверное, никогда бы не сделал даже для того, «чтобы освободить прусского короля из рук французов», как объясняла Екатерина свое поведение графу Кейзерлингу. Фридрих не мог, разумеется, желать ничего лучшего, и сейчас же стал искать подходящей арены для совместных с Екатериной действий: он остановился на диссидентах. Россия могла взять на себя защиту православных, а Пруссия — протестантов: таким образом, оба государства вмешались бы во все внутренние дела республики. Но этот выбор был неудачен для Пруссии: Фридрих вскоре убедился в этом. Протестантов в Польше было мало, а православных и униатов очень много. Почувствовав свою ошибку, Фридрих хотел остановить игру, но было уже поздно: Россия зашла слишком далеко. Тогда Фридрих решил смешать карты и, бросив диссидентов, заняться конституционными реформами Польши; но от этого отказалась Россия. Она упорно настаивала на своем праве защищать диссидентов, предоставляя полякам менять свою конституцию, как им угодно. Вот каково было положение дела к концу 1771 года, когда брат Фридриха, принц Генрих Прусский, появился в Петербурге. Преимущество было на стороне Екатерины, но она напрасно вмешала третье лицо в партию, которую прекрасно могла бы сама довести до конца. Проиграв первую ставку, Фридрих рассчитывал теперь захватить главный куш. Это ему и удалось. И вот каким образом.
Миссия принца Генриха Прусского вовсе не состояла в том, как многие предполагали, чтобы столковаться с Петербургским кабинетом насчет раздела польских владений. Это видно по инструкциям, данным ему, и по его переписке с братом. Вопрос шел не о дележе, а об умиротворении Польши, в которой слишком энергические действия русских вызвали сильное брожение. Фридрих хотел, чтобы на границах у него все жили в мире. Вообще он мечтал о мире, который дал бы ему возможность собраться с изнуренными силами. Да и на проект графа Линара еще недавно ответили явным несогласием: России, мол, достаточно земель, чтобы думать еще о чужих. Только раз в письме к брату принц Генрих слегка касается вопроса о «возмещении убытков», которого могла бы добиться Пруссия от Польши, но прибавляет, что заговорить об этом при русском дворе едва ли возможно. «Ну, что же, — ответил ему на это король: — не надо в таком случае об этом и говорить». И действительно, об этом так и не поднимали разговора, а беседовали о трудном положении Пруссии, как союзницы России, ввиду конфликта этой последней с Портой, в особенности, если бы Австрия, как она того, по-видимому, хотела, вступилась вместе с Турцией за польские вольности. Фридрих заявил и лично и через брата, что он не станет рисковать ссорою с Австрией и Францией «за соболиную шкуру», как вдруг в первых числах января 1771 года в Петербург, точно снег на голову, свалилось неожиданное известие: Австрия заняла военным порядком два польских староства.