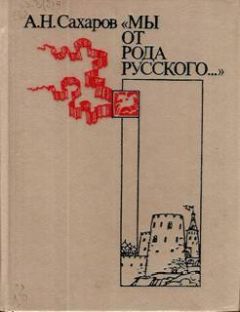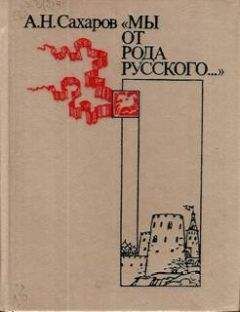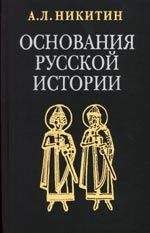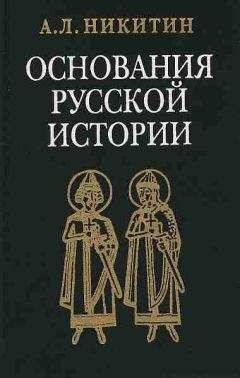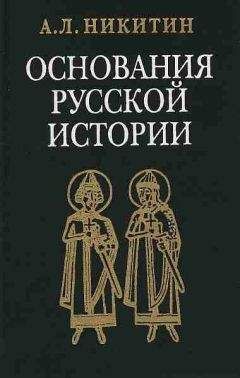Игорь Симбирцев - Спецслужбы первых лет СССР. 1923–1939: На пути к большому террору
Видя же спецслужбу единой и монолитной защитницей своей власти, мечтая и о монолитности в самой партии, Ленин и его соратники приняли меры – Х съезд партии запретил внутри ее фракции и внутрипартийные группировки. Но поскольку ни «левые коммунисты», ни «правые», ни «троцкисты», ни «зиновьевцы», ни «сапроновцы» (демократические централисты), ни «медведевцы» (рабочая оппозиция) никуда не исчезли, а только потеряли легальный статус, внутрипартийная борьба с окончанием Гражданской войны возобновилась с новой силой. Уже в 1920 году один из самых влиятельных тогда лидеров партии большевиков Зиновьев на всероссийской конференции РКП(б) признал, что хотя сейчас у большевиков фракций в партии нет, но есть явные ручейки недовольства. В этой среде быстро появлялись все новые не оформленные легально фракции, типа «старых большевиков», пытавшихся примирить правых и левых, или «истинных марксистов-ленинцев».
Почти всегда в 20-х годах одним из первых требований оппозиции становилась отмена решения Х съезда партии о запрете на фракционную деятельность. И здесь началось наступление Троцкого и его соратников на группировку Сталина за предательство интересов революции, а взятый курс на укрепление социализма в СССР Троцкий назвал предательством революции, как и продолжавшуюся политику НЭПа. Так сформировался «троцкизм», хотя троцкистами эти люди (включая, естественно, самого Троцкого) себя не называли, именуя сами себя истинными большевиками-ленинцами, последователями дела умершего Ленина. В это же время «Рабочая оппозиция» в партии взывала прекратить обюрокрачивание партии и государственного аппарата, и здесь тоже главным трибуном и главарем «рабочей группы» оказался бывший чекист Гаврила Мясников. Этот организатор «красного террора» на Урале и убийца великого князя Михаила Романова гремел: «Бюрократов назначают с самого верха, а прикрываются именем пролетариата!», и у «рабочих оппозиционеров» в начале 20-х годов обнаружились сторонники из действующих чекистов. Другой лидер «Рабочей оппозиции» Лутовинов так переживал отход от военного коммунизма и мировой революции, что даже Ленина зачислил в ренегаты и отступники, в тоске по преданной революции он в 1924 году покончит с собой.
Появились среди чекистов и зиновьевцы, после того как в 1926 году в оппозицию Сталину перешли сторонники Зиновьева и Каменева, а затем они объединились в тактических целях выживания со сторонниками Троцкого в «Объединенную оппозицию». Штаб этой единой оппозиции тогда собирался на квартире троцкиста Смилги и планировал переход к подпольным методам борьбы с победившим их в партийной борьбе Сталиным. Одними из главных лидеров троцкистской и зиновьевской фракций стали Бакаев, в годы Гражданской войны начальник Петроградской ЧК, бывший замначальника Закавказской ЧК Панкратов, бывший начальник Уральской ЧК Черных, бывший начальник Грузинской ЧК Цинцадзе. Среди троцкистов выделялся своей жесткой позицией бывший в Гражданскую войну начальником Киевской ЧК Яков Лившиц, не отрекшийся от своих принципов даже после изгнания после 1927 года в числе других троцкистов из партии. В 1936 году Лившиц будет арестован и станет одним из ключевых обвиняемых на процессе о «Параллельном троцкистском центре», по итогам которого бывший чекист будет расстрелян, как и проходивший с ним по этому же делу другой троцкист и сотрудник ВЧК времен Гражданской войны Норкин.
Из-за этих же разногласий или подозрений в связях с какой-либо из фракций тихо удален из ГПУ бывший заместитель Дзержинского Уншлихт, ему же припомнили еще дореволюционные обвинения в связях с царской охранкой. В связи с подозрениями в троцкизме убрали с Лубянки и «рыцаря революции» Петерса. За тайные контакты с правой группой Бухарина позднее вынужден был покинуть ГПУ и первый заместитель председателя этой службы Трилиссер – никто из них потом не переживет зачищающего все эти сомнения Большого террора. Есть версия о каком-то очень высокопоставленном информаторе троцкистов в ГПУ – НКВД, предупреждавшем оппозицию об операциях спецслужб против нее. По мнению исследователей А.И. Колпакиди и Д.П. Прохорова в их книге «КГБ: спецоперации советской разведки», этим загадочным «мистером Икс» на Лубянке в 30-х годах был начальник Секретно-политического отдела ГПУ – НКВД Георгий Молчанов. Недаром его первым из людей Ягоды расстреляли в 1937 году, арестовав на посту начальника НКВД Белорусской ССР, сразу после допросов первых лидеров «троцкистско-зиновьевской оппозиции» – кто-то из них мог выдать роль Молчанова.
Нужно, наконец, твердо разграничить, что это в Большой террор 1936–1939 годов многие ликвидированные расстрелами «троцкистско-зиновьевские блоки» и «правые банды террористов» в основной своей массе были выдуманы следствием НКВД и выбиты признаниями у обреченных. А в 20-х годах, в разгар борьбы Сталина с оппозицией, все эти блоки и уклоны были реальностью. После запрета троцкистов и ссылки Троцкого в Алма-Ату с последующим изгнанием его в 1929 году за пределы СССР очень многие троцкисты не смирились и продолжали борьбу всеми доступными им методами. Они вели агитацию среди членов партии и просто в рабочих коллективах, писали коллективные письма в защиту своей линии в ЦК и в советские газеты. А наиболее отчаянные и убежденные переходили и к нелегальной деятельности, уходили даже в подполье, где пытались создавать свои тайные группы и нелегальные типографии, шли за это в тюрьму, как прославленный красный командир времен Гражданской войны Мрачковский.
Сейчас кажется уже невероятным, но в 20-х годах эта объединившаяся оппозиция бурлила достаточно активно. 7 ноября 1927 года ее сторонники устроили даже альтернативную демонстрацию под своими лозунгами, а ее вожди (Зиновьев, Каменев, Радек, Мдивани и др.), как на трибуну ленинского Мавзолея, поднялись на балкон одного из зданий на Манежной площади, откуда их силой выгоняла советская милиция и «возмущенная общественность».
С самого начала борьбы против Троцкого и его соратников ГПУ оказалось втянуто партийной властью в борьбу с фракционной оппозицией. Сталин уже забрал большую часть полномочий главы государства и на этих правах не пожелал ввязываться с троцкистами и другими оппозиционными группами в бесконечные диспуты, а задействовал против них свою государственную и бюрократическую машину, а значит, и такой важнейший ее элемент, как спецслужба.
С 1923 года, когда ввиду болезни Ленина было очевидно, какая борьба за его наследство скоро разгорится в партии, Дзержинский воплотил это в явную поддержку генерального секретаря Сталина. Он стал безжалостен к тем своим подчиненным в ГПУ, кто в спорах становился на сторону оппозиции или хотя бы начинал колебаться между главными фракциями. Так, Дзержинский в 1924 году без сомнений выгнал на хозяйственную работу начальника Новгородского управления ГПУ Абрама Мильнера «за колебания по отношению к внутрипартийной оппозиции». Как ни парадоксально, это решение Феликса Эдмундовича впоследствии спасет жизнь опальному чекисту Мильнеру. Когда с 1936 года НКВД брал сначала откровенных троцкистов и зиновьевцев из чекистов, потом колеблющихся, а затем и совсем к оппозиции непричастных – настоящий «колеблющийся» и троцкист Мильнер в народном хозяйстве спокойно переживет «большую чистку» и умрет своей смертью только в 1968 году, – такое тоже случалось на послереволюционных просторах в СССР.
К тому же Дзержинский в диспутах 1923–1926 годов однозначно поддерживал группу Сталина. Да и сам был в ЦК активным ее членом, регулярно нападая на Троцкого, а позднее и на перешедших в оппозицию Зиновьева с Каменевым. А Троцкого Дзержинский, похоже, просто ненавидел, считая его тем «Бонапартом с красными перьями» – будущим потенциальным могильщиком революции, хотя, разумеется, руководствовался в наступлении на троцкистскую линию он не личной неприязнью к ее вождю, а принципиальными соображениями.
Дзержинский при этом временами колебался, заявлял даже летом 1925 года, за год до своей смерти, что никогда не будет поддерживать в этой борьбе ни одну из фракций, назвал всю эту фракционную эпопею «борьбой пауков в банке». Но ведь при этом он ни одним намеком не склонялся к хоть какой-то защите Троцкого или Зиновьева.
Как бы там ни было, свою спецслужбу Железный Феликс с 1923 года полностью предоставил к услугам правящей тогда в ЦК верхушке Сталина с Бухариным для ударов по оппозиции в партии. Если бы тогда борьба пошла, как требовали оттесненные от реальных рычагов власти оппозиционеры, только в диспутах на пленумах и съездах партии, то у Сталина в группе приверженцев появился бы только преданный сторонник – Дзержинский. Но поскольку Сталин решил давить оппозицию не речами, а силой своей властной машины, то Феликс Эдмундович дал ему не только свой голос в спорах в ЦК, но и мощнейший карательно-расследовательный аппарат своего ГПУ, использованный Сталиным затем в войне с оппозицией в качестве тяжелой артиллерии, у противника начисто отсутствующей, что и предопределило во многом исход этой баталии в пользу Сталина.