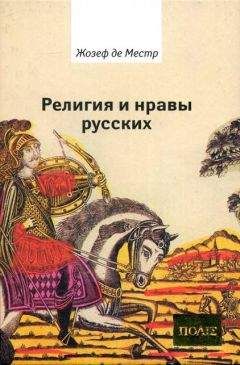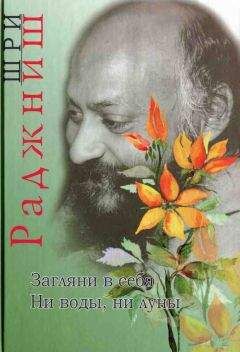Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.
Понятие христианства заключает в себе много значений и в том числе номинативное. В самом деле, уже само имя христианина в Римской империи служило основанием для преследования: как писал Тертуллиан, «предмет закона — это имя» (nomen in causa est){858}. В эпоху Высокого Средневековья сочетание «христианское имя» было весьма употребительным. Так, хронист Малатерра после описания победы мусульман над христианами на Сицилии повествует о том, как победители-неверные «безмерно радовались этому обесчещению христианского имени»{859}. В послании из Антиохии предводители первого крестового похода описывали его как «главный и крупнейший город христианского имени»{860} (имея в виду, что здесь христиане впервые получили свое название). Когда в 1124 году объединенное войско венецианцев и Иерусалимского королевства взяло Тир, летописец Вильгельм Тирский охарактеризовал это событие как «возвращение ему христианского имени»{861}. Одним из признаков принадлежности к иной вере было враждебное отношение к самому этому понятию. Первый крестовый поход был направлен против «врагов имени христианина»{862}. Такой же ярлык мог быть навешен и на иудеев. Имя «христианин» имело врагов, а следовательно, нуждалось и в защитниках. Граф Сицилийский Роджер, прославившийся своими победами над мусульманами, заслужил приветствие как «бесстрашный сокрушитель врагов имени христианского»{863}, а испанский военный Орден св. Иакова провозглашал своей целью «борьбу в защиту христианского имени»{864}.
В случаях, подобных описанным, понятие «имя» несомненно наполнено более широким смыслом, чем просто обращение. И все же выражение «христианское имя» обладает силой именно в той мере, в какой используется как ярлык. Будучи инструментом обозначения и различения, оно служило для прелатов, князей и летописцев христианского мира средством самоидентификации. Когда великие отцы Римской церкви эпохи Высокого Средневековья очерчивали степень своих правопритязаний, они подчас формулировали это так: «Все королевства, в коих почитается имя христианина, уважают Римскую церковь как мать»{865}. Парафраз «все королевства, в коих почитается имя христианина», весьма точно характеризует сферу папского влияния. И естественно, оно также подразумевает вполне определенные народы и территории.
Латинский термин «номен», то есть имя, можно еще перевести как «семья» или «племя», и в каком-то смысле понятие «христианин» также приобрело квазиэтническое значение. Верно, что христианами не рождаются, а становятся — путем крещения, но для огромного большинства рожденных в христианской Европе в Высокое Средневековье крещение было актом, само собой разумеющимся. Они вполне могли считать себя не добровольными членами определенного сообщества единоверцев, а членами христианской «нации» или «народа». Как сказал Монтень, «Мы христиане в силу тех же причин, по каким мы являемся перигорцами или немцами»{866}. Этническое наполнение понятия «христианин» в эпоху Высокого Средневековья прослеживается во всем, и, по-видимому, этот оттенок его значения неуклонно возрастал. Термин «христианский народ» (populus christinus), вполне расхожий, означает не более чем «общину христиан». Однако когда на рубеже VIII–IX веков саксонцы были насильно обращены в христианскую веру франкским оружием, принятие новой религии сделало их «по сути одной расой (quasi una gens) с самими франками»{867}. Экспансия нового тысячелетия привела христиан туда, «где прежде христиане никогда не бывали»{868}, и эти новые сопоставления лишь усилили осознание того, что христиане — это народ, племя или раса. Они столкнулись с населением с совершенно другими традициями, речью, законами и во многих случаях поставили себя в положение привилегированного меньшинства. Разница вероучения оказалась неразрывно связана с различием в этнической принадлежности.
Один источник описывает, как в 1098 году, во время первого крестового похода, после взятия крестоносцами Антиохии, Иисус явился армейскому священнику и вопросил: «Человек, что это за раса (quaenam est hec gens) вошла в город?» — и получил ответ: «Христиане»{869}. Григорий VII также использовал понятие «христианская раса» (Christiana gens). Выражение «святой народ христианский» (gens sancta, videlicet Christianorum){870} встречается у немецкого летописца Арнольда Любекского. Французские героические песни и стихотворные хроники повествуют о «христианском народе» (la gent cristiane){871} и в одном таком эпосе крестоносцев, «Песни об Антиохии» (La chanson d'Antioche), Иисус изображается висящим на кресте, разъясняющим добросердечному вору на соседнем распятии, что «из-за моря придет новый народ (novele gent) и отмстит за смерть Отца своего»{872}. Особенно отчетливо наполнение понятия христианин этническим содержанием прослеживается у французского прелата Бодри Бургейльского, труды которого относятся к началу XII века. В предисловии к своей истории первого крестового похода он объясняет, что стремится быть справедливым и к христианам, и к язычникам, хотя «сам я христианин и произошел от предков-христиан, так что ныне, можно сказать, владею святостью Господней по наследству и для себя избрал наследственную профессию христианскую»{873}. Далее он пишет, что умаление военного искусства язычников не есть метод прославления христиан, ибо это будет означать, что «наша раса» (genus nostrum) сражалась с «невоинственным народом» (gens imbellis).
Эти примеры показывают, как христиане, сталкиваясь в ходе средневековой экспансии с чуждыми народами, все больше придавали своему групповому самосознанию этнический смысл. Некоторые из тех, кому они противостояли, проводили такое же тождество. «Имя христианина, — писал францисканский миссионер Вильгельм Рубрукский, — кажется им [монголам] обозначением конкретной расы»{874}. Параллельно с этой тенденцией к «этнизации» наблюдалась другая, делающая упор не на происхождении, а на территориальных корнях. Христиане были народом или расой; они имели свои земли или области расселения, которые можно было описать географически. Наиболее часто употреблявшимся термином для обозначения зоны христианского влияния является выражение «христианский мир». Здесь примечательны два момента: первый — что в конце XI века употребление этого термина резко участилось, а второй — что он все больше наполнялся вполне конкретным территориальным звучанием.
Понятие христианства прошло длительную историю{875}. Обычное его значение в период Раннего Средневековья было «люди христианской веры», но постепенно его толкование все больше привязывалось к определенной территории. Когда Григорий VII писал немецким епископам об опасностях, которые могут грозить «не только Вашему народу и королевству немцев, но и всему миру в христианских границах (fines Christianitatis)»{876}, то ясно, что «христианство» (или «христианский мир») в его представлении носит отчетливо географический оттенок. Аналогичным образом щедрость Людовика VII к духовенству влекла клириков в Париж «со всех концов христианского мира». Волна всеобщего воодушевления идеей третьего крестового похода прокатилась «по Нормандии, Франции и всему христианству». Лионский Собор 1245 года собрал прелатов «практически со всех концов христианства»{877}. Эти и подобные им примеры показывают, что христианство рассматривалось как особая часть мира, регион, определяемый по его религиозной принадлежности. Это были «все королевства, где почитается имя христианин».
В наибольшей степени этот термин наполнялся территориальным смыслом, когда применялся для обозначения области, границы которой расширялись за счет чужих земель. Конечно, значительный рост римско-католического мира, происходивший в Высокое Средневековье, можно было определять различным образом, например, как «рост числа и славы христианского народа»{878}, однако преобладающими были образы физического расширения границ и увеличения размеров (dilatio). На каждом фронте (лексика великой стратегии представляется тут как никогда уместной) с пера авторов писем, хартий и хроник с одинаковой легкостью срывались те же самые существительные и глаголы. На Сицилии граф Роджер «значительно расширил (dilatavit) границы Церкви Господней в сарацинских землях». На христиано-мусульманской границе в центре Пиренейского полуострова набожный кастильский аристократ трудился на ниве «расширения (dilatio) рубежей христианской веры». В Пруссии Тевтонские рыцари выступили с кампанией «расширения (ad dilatandum) границ христианского мира». Естественно, в полном смысле фокусом этой терминологии служили крестовые походы. Великие крестоносные идеологи говорили о крестоносцах, которые истово сражались «за распространение (dilatare) имени христианина в тех областях», а папские легаты перед битвой молились о том, чтобы Господь сумел «расширить (dilataret) царство Христово и церкви Его от моря и до моря»{879}.