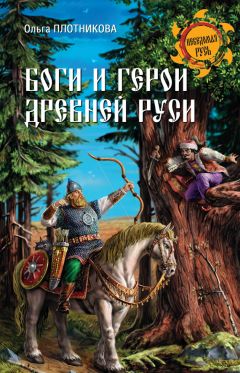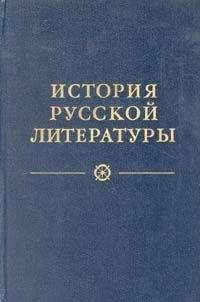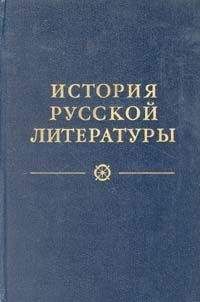Алексей Дельнов - Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна
В Пекине русский посол был принят богдыханом с почетом – «с большой отменностью против прежнего» (т. е. совсем не так, как предыдущие посланники). Но когда он занялся конкретной работой – уточнением границ совместно со специально уполномоченными на то министрами – ему пришлось вдоволь нахлебаться восточных хитростей. Партнеры сразу же предложили ему карты, на которых была изменена государственная принадлежность едва ли не половины Сибири – все земли вплоть до Тобольска оказались в пределах Поднебесной. На успех такого запроса мандарины, конечно же, не рассчитывали – просто сделали дальний закидон, чтобы обеспечить себе пространство для маневра. После нескольких бурно прошедших заседаний китайцы отступили до Байкала и Ангары, затем дело дошло вроде бы до конструктивного разговора – пусть у каждого будет то, что уже есть. Из таких соображений и набросали черновик соглашения. Но через два дня китайские переговорщики уведомили посла, что «говорили это от себя, и его тешили, а богдыхан не согласился» – якобы из-за жалоб монгольских владетелей на то, что после заключения Нерчинского договора русские силой отодвинули границу на несколько дней пути на юг. И опять предложили экспансионистский, мягко говоря, вариант – да еще и стали оказывать на Рагузинского и на всех членов посольства психологическое давление.
Посла то запугивали, то сулили ему несметные сокровища, а заодно стали ограничивать русским свободу передвижения и поить их соленой водой – отчего половина делегации свалилась в тяжком недуге. Но Рагузинский, верный слуга государыне и отечеству, в ответ на все притеснения заявил, что пусть хоть все перемрем – такого договора он не подпишет. Китайцы же сказали, что он «упрямец, а не посол», и на то только и годен, чтобы привезти подарки их богдыхану и забрать ответные для своей матушки-императрицы – то есть пригрозили срывом переговоров.
Разговор пошел на повышенных. Рагузинский заявил, что «Российская империя дружбы богдыхана желает, но и недружбы не очень боится, будучи готова к тому и другому». Китайцы поинтересовались, не собирается ли посол объявить войну. На что последовал ответ: таких полномочий не имею, «но если вы Российской империи не дадите удовлетворения и со мною не обновите мира праведно, то с вашей стороны мир нарушен, и если что потом произойдет противно и непорядочно, Богу и людям будет ответчик тот, кто правде противится».
Наконец, богдыхан распорядился: пусть посол и китайские министры отправятся в пограничный район, там все согласуют и подпишут договор.
Возможно, одной из причин такого относительно благополучного завершения пекинского этапа переговоров стало то, что Рагузинский, как опытный дипломат, сразу же занялся вербовкой «агентов» в стане противника. Сначала он наладил отношения с придворными иезуитами и завел с ними «цифирную» (шифрованную) переписку. Сами по себе они, кроме выполнения роли осведомителей и связных, многого сделать не могли – новый император Юнчжэн начал гонения на чужеземные религии и даже казнил нескольких своих сановников, принявших католичество. Но через них русский посол установил ценные контакты при дворе, в том числе с влиятельным вельможей Мо Си, который сообщал ему обо всех замыслах китайских министров и самого богдыхана и давал полезные советы (из ближайшего российского каравана Мо Си получил за свои услуги товаров на тысячу рублей, отцы-иезуиты – на сто).
20 августа 1727 г. на забайкальской реке Бурее русский полномочный посол и китайские министры подписали так называемый Кяхтинский договор – на условиях, которых добивался Рагузинский в Пекине. Наш дипломат и на этом этапе нашел себе ценного осведомителя – влиятельного монгольского князя, который держал его в курсе всех китайских дел. Но немалой долей успеха, по признанию Рагузинского, российская сторона была обязана тому, что наконец-то были приведены в порядок приграничные крепости, переброшен поближе к границе тобольский гарнизонный полк и выказали верность российскому престолу «ясачные иноземцы, бывшие в добром вооружении».
Кяхта – небольшая речка, на которой возникла одноименная слобода, впоследствии выросшая в город. Местность эта была объявлена зоной приграничной торговли, которая велась здесь долго и успешно. Рагузинский донес в Петербург о новых аферах с самозваными «посольскими» караванами. Сообщил также о мошенничестве русских сборщиков ясака, которые наиболее ценные шкурки черных соболей забирали себе, а сами очень ловко коптили обыкновенные желтые шкурки и сдавали в казну по высшей категории. Эти подделки отправлялись в Кяхту как казенный товар, но китайцы наметанным взглядом сразу определяли, что почем, и от того российской стороне были убыток и бесчестье. Сам же посол признался, что, как ни щурился – копченых соболей от подлинных отличить не мог.
Стараниями графа Иллирийского наконец-то была учреждена русская духовная миссия в Пекине. Только, чтобы не вызвать лишней зависти у инославных христиан, на которых в те годы были гонения, ее ранг был несколько понижен: возглавил ее не епископ Иннокентий Кульчицкий, а архимандрит иркутского Вознесенского монастыря Антоний (который сразу же стал жаловаться в Петербург, в Синод, что отец Иннокентий дал ему в помощники не иеромонаха, как было обещано, а белого священника – совершенного пьяницу).
За свои заслуги граф Иллирийский Савва Лукич Рагузинский-Владиславич был пожалован чином тайного советника и орденом Александра Невского.
В годы правления императрицы Елизаветы Петровны по инициативе сибирского губернатора Мятлева строились планы организации российского судоходства на Амуре – для доставки хлеба в отдаленные приречные поселки, на тихоокеанское побережье и острова, а также для дальнейшего изучения бассейна реки и ее притоков. Но поскольку Амур – река пограничная, требовалось согласие китайского двора. Император же Цяньлун обращенную к нему просьбу не уважил: «Хитрая Россия просит с почтением, да притом и объявляет, что уже для того плавания и суда приказано готовить. Чем дают знать, что, и не получа позволения, могут своим ходом идти».
Чувствуя недоверие, «хитрая Россия» тоже не позволяла себе благодушествовать – при матушке-Екатерине вдоль китайской границы было размещено одиннадцать полков.
И недалеки уже были те времена, когда не только на границах Поднебесной, но и в глубине ее территории очень многое будет происходить вопреки воле Сына Неба.
Запад – Цин: дипломатия канонерок (Первая опиумная война)
Два из четырех правлений первых маньчжурских императоров были необыкновенно долгими. Канси и его внук Цяньлун правили по 60 лет. Ну, если быть совсем точными – внук не 60, а 59. Он оставил трон в 1796 г. не по причине естественной убыли сил, а добровольно передав власть – потому что, следуя своим конфуцианским убеждениям, ни в чем не хотел превзойти великого деда.
Китайцы, по столько лет, можно сказать поколениями жившие под эгидой все одного и того же императора, могли проникнуться чувством, что это нечто вневременное, неизменное. Тем более, что своего повелителя простому люду видеть не полагалось – когда по улицам проезжал императорский кортеж, запрещалось высовываться из окон. Нельзя было даже произносить его настоящее имя – вместо него употреблялся девиз правления. Иногда на стену Запретного города выходил глашатай и зачитывал высочайший указ, после чего совал его в клюв металлического феникса. Статуя спускалась на веревках вниз, декрет уносили к министрам – таким образом народ получал очередное руководство к жизни и деятельности. Жилось людям тогда сравнительно неплохо, вкусив по горло за свою долгую историю всяческих бед, китайцы вряд ли желали перемен. Так что императора можно было считать просто Сыном Неба – не вспоминая о том, что у него чужеземные корни.
Император Цяньлун
Но все неплохое, так же как и все хорошее, когда-нибудь кончается. А китайская история циклична, поэтому к концу XVIII в. стала вырисовываться примерно такая же картина, что и на предыдущих витках. Богатые становились еще богаче, многие в недавнем прошлом не богатые, но и не бедные становились их батраками или арендаторами (хорошо еще, если только должниками – хотя и в этом ничего хорошего). Нечистые на руку чиновники утаивали до половины налоговых сборов, а во время реконструкции защитных сооружений на Хуанхэ прикарманили 60 % казенных сумм. Когда после смерти императора Цяньлуна арестовали его первого министра Хэ Шэня и сделали обыск у него на дому – оказалось, что присвоенное им равняется двум государственным бюджетам.
Огромных расходов требовали военные походы и охрана протяженных, как никогда, границ. Основной, поземельный налог правительство старалось не увеличивать, но выдумывались все новые дополнительные поборы. Но, опять же – алчная чиновная братия держала карман наготове. Когда ввели местный сбор для срочной переброски риса из бассейна Янцзы в Пекин – три четверти собранных сумм испарилось.