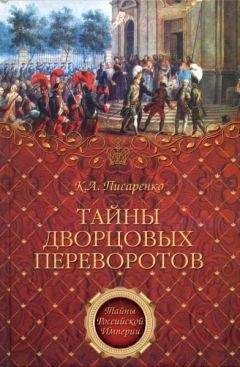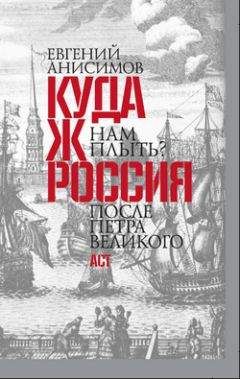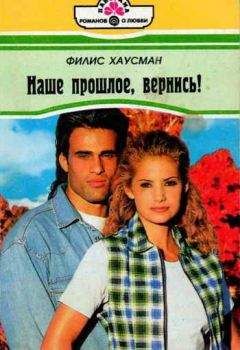Евгений Анисимов - Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720-е — 1760-е годы)
В 1758 году, в мае месяце, при расписании офицеров по полкам, приказал граф меня переименовать из обер-фейерверкеров в капитаны: ее первая стрела была пущена на меня гонения. Я просил Михаила Александровича Яковлева, который тогда у графа был генерал-адъютантом, правил канцелярией и был прежде в великой у него силе; он обещал меня написать в Московскую команду; однако как он прилежно ни трудился разными приемами по своему искусству, только не мог довести того, чтобы граф обо мне не вспомнил и подписал положенное расписание по его мне обещанию. Да и Яковлев не так уже стал силен. Граф избрал себе в любимцы, из канцелярских переписчиков, подьяческого сына Макарова, который прежде был у Яковлева в команде. Макаров своим проворством как для письменных дел способным, так и в других нежных услугах графу понравился: граф пожаловал Макарова своим адъютантом. Макаров, отпросясь в Симбирск, женился на богатой дворянской девушке Ратьковой, за которой взял семьсот душ крестьян; ныне он живет в отставке коллежским советником. Вот каково быть у большого человека Меркурием!
Графский дом наполнен был тогда весь писцами, которые списывали разные от графа прожекты. Некоторые из них были к приумножению казны государственной, которой на бумаге миллионы поставлено было цифром; а другие прожекты были для собственного его графского верхнего доходу, как-то: сало ворванье, мачтовый лес и прочее, которые были на откупу во всей Архангелогородской губернии, всего умножало его доход до четырехсот тысяч рублей (кроме жалованья) в год. К чести графа недоставало только чина командовать своей дивизией, ибо его дивизия была в команде у главного командира над армией в походе против Пруссии. Граф выпросил себе позволение набрать изо всех полков корпус, состоящий из тридцати тысяч человек, назвал оный корпус обсервационным, укомплектовал его новой артиллерией и поставил себя главным шефом. Поручил он в команду сей корпус генерал-аншефу Брауну, который графа рапортовал одного, а с главной армией не соединялся и не подчинен был до самой Кистринской баталии[126]; а какое оный корпус сделал, при той важной тогда баталии, неустройство и смятение и как его потом растасовали по полкам, я здесь о том упоминать не намерен и обращаюсь к тому, что до меня касалось.
Когда Яковлев не мог мне сделать, дабы я был по расписанию в Московской команде, то того ж 1758 года, в июне месяце, командирован я был в Ригу. Получа ордер от полковника, я приехал прощаться к графу; он приказал мне у себя остаться обедать. После обеда граф, ходя долгое время взад и вперед по комнате, наконец кинулся ко мне, как поврежденный, на шею и, обняв меня своими руками, прижимал крепко долгое время. Я считал его лобызание последним себе роком, противиться не смел, а живу быть не чаял, только и помышлял, что задавить до смерти; прощался я заочно с женой своей, что уже не увижусь с ней. Наконец, отняв руки от объятия моей шеи, толкнул он меня от себя прочь, сказав притом мне: «Кланяйся всем генералам в армии». По таком дружеском нашем прощании с графом, мы с женой, забрав с собой детей ее, а моих пасынков, за которых, по-видимому, мы страдали и гонение имели от графа, отправились в путь свой, заехав сперва по пути в Копорский уезд, в свою мызу, в коей, прожив одну неделю, поехали в Ригу.
Жена моя, не доехав восьмидесяти верст до Риги, родила дочь Прасковью; а как в Ригу приехали и квартиры скоро не сыскали, которая в таковом случае весьма необходима родившей женщине для покоя, тогда случился в Риге быть мой прежний приятель, капитан (что ныне генерал-майор при артиллерии) Иван Петрович Лавров; он уступил нам свою квартиру, покуда нам другую сыскали. По приезде моем в Ригу, услышал я, что полковнику Бурцову уже есть повеление, дабы отправить меня немедленно в армию в Пруссию. Я был тогда болен и не мог так скоро ехать, почему и пошло строгое надо мной свидетельство в той моей болезни, которое во-первых доктор с лекарями, потом вскоре второе от штаб и обер-офицеров. Граф, будучи всем тем недоволен, почитая мою болезнь притворной, приказал третье учинить свидетельство в моей болезни, и писано было прямо к рижскому губернатору, князю Долгорукову, дабы сам губернатор нечаянно, изыскав время, со штаб-офицерами пришел в мою квартиру и осмотрел показанные обо мне от доктора и от штаб-офицеров в репорте болезни. Губернатор, видя такое повеление, строгое и прилежное надо мной учинил свидетельство, какового никогда ни над кем другим не бывало; однако не пошел ко мне сам свидетельствовать, а прислал штаб-офицеров одних, которые то ж, как и прежние, видя мою сущую и непритворную болезнь, написали в репорте, что за слабостью к армии ехать не может. И оное свидетельство не последнее было мне.
Приехал тогда из армии нечаянно артиллерии генерал-майор Недельфер; человек был подлой души, лакомый к прибытку, пасторский сын родом. Недельфер, узнав о моем таковом частном свидетельстве от прочих, не оставил и он, якобы по должности своей, изыскать в болезни моей правду и за сие возомнил получить себе, как доктор, за вступление его ноги в квартиру добровольный подарок: не хотел опустить случай блестящий к его жадному интересу. Он так в сем пункте был заражен, что не стыдился от рядовых пушкарей принимать приносы, и без того не хотел ни малейшего удовольствия сделать. Призвал он доктора к себе, дабы с ним шел меня свидетельствовать; доктор с презрением ему сказал, чтобы шел один, а ему, доктору, уже быть у меня незачем, понеже (говорил) я больного свидетельствовал и о болезни его репорт подписал правильный. Генерал-майор Недельфер пришел ко мне в квартиру с полковником Бурцевым, без доктора; между прочими разговорами обещал мне самую легкую по болезни моей службу и ближнюю командировку, дабы я ехал хотя в Мемель, недалеко отстоящий от Риги город. Я ему отвечал, что по выздоровлении моем не отрекусь всюду ехать, а теперь не могу.
По таковом нашем свидании и разговоре с Недельфером, сомневался я, дабы не оболгался он своим репортом о моей болезни и не поставил бы ее совсем посредственной против прежде посланных репортов; однако страх мой миновал. Жена его, генеральша Богомила Даниловна, превосходила своего мужа своим проворством, ознакомилась с моей женой. Генеральша не упустила сего полезного случая, взялась стараться и стряпать обо мне у своего мужа, насказав прежде, что она слышала от него якобы нам неприятное; а за такие свои усердные труды и откровенности в приданое своей племяннице (она своих детей не имела) получила от жены моей добровольного подарка рублев на сто. Недельфер не устыдился и сам на свою персону требовать также подарка, под видом якобы шутки, как будто он для меня великое одолжение сделал, что написал репорт, в котором пишет так: «Он меня осматривал и видел здоровьем слаб и лицом худ». Склад сего репорта точно изображает его природный разум. Я просил через адъютанта его, чтоб он худобу лица моего из своего репорта выключил; но он без ряды того сделать не хотел, а я более торговаться с ним не пожелал и оставил так. Дочь наша, по приезде в Ригу, пожив два месяца, скончалась.
В августе месяце проскакал из армии через Ригу курьер; от него узнали о несчастной близ Кистрина бывшей баталии. Оною армией командовал тогда граф Фермор, жена его жила в Риге. Графиня получила от своего мужа о многих несчастливых известие, а через графиню и все сведали, кому надлежало украсить свое несчастье трауром. На сей баталии граф Чернышев, генерал-поручик Иван Алексеевич Салтыков, Мантейфель, со многими штаб- и обер-офицерами, взяты были в полон; из артиллерийских мне знакомых убиты были полковник Калистрат Мусин-Пушкин, подполковник Эленадлер, подполковник Аранд, майоры Игнатьев и Брем, и прочих штаб- и обер-офицеров побито много. К великому тогда графа Шувалова неудовольствию, взяты были на оной баталии его секретные гоубицы пруссаками в добычу, у которых в дуло не смели из своих россиян смотреть не имеющие особливой к сему таинству доверенности и присяги. Король прусский, получа оные гоубицы, приказал в Берлине, своем столичном городе, поставить на площади и открыть у них секретные дулы для вольного смотрения всех зрителей.
После свидетельства Недельферова, посланного о моей болезни, в Риге ничего со мной на некоторое время не происходило; однако из главы моей никогда того не выходило, с кем я имею дело: с тем, который определил мне смерть и досадует еще на меня жестоко, помышляя, якобы я в поругание его гордого определения живу на свете и еще увертываюсь от его сильной руки так долго. В таковом волнении оскорбленных моих мыслей не мог я предвидеть будущего, что со мной граф сделать может; от сего впал я в великую задумчивость; наконец, посетила меня безрассудная гипохондрия. В такое беспокойное для меня время не получал я долго от своего приятеля Мартынова писем, что побудило меня к нему наконец написать так: