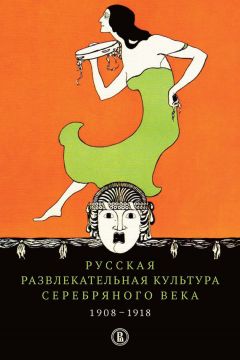Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
Но то, что идея создания института вызревала в беседах Семенова с другими людьми, было знаменательно. Знаменательно не только в отношении его деятельности применительно к русской культуре, но отчасти еще и по самой природе этой культуры, которая очень часто добивалась наиболее значимых успехов, когда становилась не предельно серьезной, а включала в себя элементы игры, некоторого дилетантизма, претворявшиеся во внутреннюю свободу и раскованность. В застольных беседах и любовных признаниях, в беспорядочных поисках у букинистов и вольных прогулках по городам Европы, в метаниях от одного дела к другому, в противоречиях между личностью и личиной выявлялся строй нового «человека-артиста», как любил выражаться Блок, который совсем не обязательно должен был быть настоящим артистом.
Таким был и Михаил Николаевич Семенов.
На фоне эпохи: Юргис Балтрушайтис[*]
Мы до обидного мало знаем о Юргисе Балтрушайтисе. В знаменитом посвящении Бальмонта к первому изданию «Будем как Солнце» он был назван «угрюмым, как скалы»[507]. И понятно, что эта характеристика относится не только к поведению в компании. Своего рода угрюмость или, скорее, молчаливость стала одной из главных характеристик его жизни и творчества.
Действительно, Мережковский и Сологуб, Брюсов и Бальмонт, Блок и Андрей Белый, даже относительно скупые на слова Вячеслав Иванов и Зинаида Гиппиус оставили после себя многотомные собрания сочинений. Все написанное Балтрушайтисом, скорее всего, уместится в два небольших томика — один на русском языке, другой на литовском. Особенно поразительно отсутствие авторефлексии: мы не знаем ни дневников Балтрушайтиса, ни статей, которые откровенно рассказывали бы о принципах его творчества, какими они видятся самому автору[508]. Переписка писателей-символистов чаще всего насчитывает десятки архивных коробок — вряд ли переписка Балтрушайтиса заполнит хотя бы одну. В отраженном свете чужих дневников, воспоминаний, писем выявляются сотни, а то и тысячи характеристик иных поэтов. Балтрушайтиса среди них почти нет.
И вместе с тем невозможно сказать, что он выбрал для себя позицию молчальника. Таких поэтов мы знаем, но немногословный Балтрушайтис на них вовсе не похож. Он говорит ровно столько, сколько считает нужным сказать, надеясь на понимание читателей, как современников, так и потомков. Но почти столетие, прошедшее с момента выступления поэта на арену литературы, несколько припорошило пылью им сделанное и заставляет читателя немало потрудиться, чтобы понять смысл сказанного. У истолкователя есть два пути, первый из которых — попытаться проникнуть в суть произнесенного, не выходя за пределы самого текста, ограничившись самим посланием, как оно представляется вдумчивому собеседнику поэта.
Мы двинемся иначе.
Балтрушайтис дебютировал в печати в 1899 году во вполне нейтральном «Журнале для всех», но настоящее начало его литературной известности оказалось связанным с русским символизмом. В том же самом году он оказался среди основателей московского книгоиздательства «Скорпион» совместно с постепенно становившимися известными поэтами — Валерием Брюсовым и К. Д. Бальмонтом, а также своим соучеником по университету С. А. Поляковым, членом большой и богатой семьи купцов и предпринимателей[509]. Свою многолетнюю и плодотворную деятельность «Скорпион» открыл изданием перевода драмы Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся», исполненного совместно Балтрушайтисом и Поляковым. И это положение своего среди московских символистов на долгие годы определило литературную репутацию поэта.
Что это означало в глазах современников, и как обрисовывается место Балтрушайтиса в актуальной русской литературе того времени для историка?
На грани двух веков о символистах писали преимущественно газетные обозреватели в статьях с заголовками вроде «Декаденты не унимаются» или «Наши декадентики». Выразительно передал облик символиста, рисовавшийся газетами, Вл. Ходасевич в воспоминаниях о Брюсове: голый лохмач с лиловыми волосами и зеленым носом[510]. Существовало две основные тональности таких заметок: или обвинение в вырождении (вслед за Максом Нордау) и безумии, или же возмущение предательством святых идеалов русской интеллигенции и русской литературы в неосмысленном подражании насквозь прогнившему Западу. Фраза Брюсова «как символист я подлежу всеобщему остракизму»[511] нисколько не была преувеличением. Потому стать в ряды авторов «нового искусства» было актом немалого мужества.
Мы не знаем, что именно привело Балтрушайтиса в этот стан. Может быть, причины внешние, о которых повествует в дневнике Брюсов:
«Потом приехал Бальмонт и сразу выбил из колеи всю жизнь. Он явился ко мне втроем с неким Поляковым и с литовским поэтом Юргисом Балтрушайтицом. <…> Еще ни разу не видал я Бальмонта столь жалко пьяным. <…> Бальмонт обнимал извозчичьи лошади, а спросив у одного кучера, русский ли он, и получив в ответ: „Вестимо, барин“, — пришел в восторг и кричал:
— Он русский! слышите ли! он — русский! <…>
Вернувшись, я застал Балтрушайтица распростертым у меня на постели; он стонал, что умирает. Мы, однако, беседовали еще часа два, потом решили везти литовского поэта в больницу, но Бальмонт увлекся сначала каким-то „чудным стариком“ — встречным, потом какой-то девицей. Балтрушайтица мы потеряли из виду. После того попали мы еще к Бахману, и лишь поздно вечером удалось мне убедить Бальмонта поехать домой»[512].
И уже через несколько месяцев аналогичных встреч Балтрушайтис оказывается в числе тех, кого Брюсов привычно именует «наши». Упоминаемые в том же дневнике рассказ в духе Эдгара По, очень хорошие стихи о старине объясняют причину заинтересованности Брюсова Балтрушайтисом, но не наоборот.
Опять-таки из разряда бытовых причин тут могла сказываться необузданная фантазия литовского поэта, о которой Брюсов вспоминал:
«Кстати, о Юргисе. Заметил я, что из его рассказов три пятых — фантазия, странная и ненужная. Вероятно, фантазия и его рассказ о путешествии в Америку, где он ничего не видел, а попал в заточение к разбойникам, которые, продержав его 5 суток, выпустили.
Самое же замечательное вот что. Приходит он к Бахману, сидит у него с 10 утра до 11 вечера, между прочим, приглашает:
— Пожалуйста, Г.Г., приезжайте это лето гостить ко мне. Мне жена строит замок у устья Немана в родной моей Литве. Мне уже обещал Вал<ерий> Як<овлевич>, и вы приезжайте на месяц с женой; угощу славным столетним вином.
Бахман поверил. Я спросил С.А. <Полякова>. Тот возражал:
— Неужели есть еще люди, которые верят Юргису?»[513]
Но хочется верить, что у дружб и союзов внутри литературы все-таки на первом плане стоят литературные причины. И, как кажется, они существуют.
Историк, пристально следящий за течением времени, не может не заметить, что движение литературы, казавшееся большей части критиков безоговорочно однообразным, на самом деле претерпевало весьма значительные изменения. То, что было естественным в середине девяностых годов, в конце десятилетия отодвигалось на задний план.
Даже если оставить в стороне различия между символизмом в Москве и Петербурге, а сосредоточиться только на московском его изводе, к которому и примкнул Балтрушайтис, то будет очевидно, что период бури и натиска постепенно стал иссякать, чтобы уступить место поиску откровений в различных сферах жизни. Эпатирующие провозглашения разнообразных внешних форм литературы перестали быть главным. Нет, конечно, они оставались, а нередко даже и углублялись (еще впереди была деятельность аргонавтов и знаменитое стремительно мифологизировавшееся противостояние Брюсова с Андреем Белым), но на передний план и Брюсов, и его соратники теперь выдвигали постижение человека и вселенной.
Очень симптоматичным в этом отношении выглядит появление в конце 1899 года, то есть на самой грани XIX и XX веков и в момент вхождения Балтрушайтиса в символистский круг, сборника стихов, озаглавленного «Книга раздумий» и включавшего произведения Брюсова, Бальмонта, Коневского и художника Модеста Дурнова. Если не обращать внимания на последние (Дурнов, судя по всему, попал в сборник вполне случайно, и только дружба с Брюсовым и Бальмонтом была тому причиной), то основным устремлением сборника было философическое постижение мира и человека, выразительно подчеркнутое самим названием книги, достаточно тесно, особенно у Бальмонта и Брюсова, связанное с попытками сверхчувственного проникновения в их природу[514].
Нам уже приходилось писать, что на рубеже двух веков в жизнь этих двух поэтов входит Анна Рудольфовна Минцлова, бывшая не просто теософствующей дамой, каких в Москве хватало, но человеком гораздо более значительным, в силу ряда причин оказавшим глубокое воздействие на многих поэтов-символистов, в том числе на Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Максимилиана Волошина[515]. Тот московский круг, о котором у нас сейчас идет речь, подпал под ее влияние на гораздо более короткое время, и было оно не столь сильным, но все же оставить его без внимания вряд ли возможно, особенно если учитывать, что Брюсов уже с давнего времени интересовался спиритизмом, а в 1900 году выступил даже в роли его теоретика[516]. В принципе не очень совместимые друг с другом теософия и спиритизм, однако, в сознании Брюсова воспринимались как разные грани одного и того же процесса — процесса постижения мира внерассудочными способами. В предисловии к поэме своего давнего друга и известного спирита А. Л. Миропольского, Александра Ланга, он писал: «Все ясней сознается, что если в мире есть только то, что видимо есть, — жить незачем, не стоит. Мы принимаем все религии, все мистические учения, только бы не быть в действительности. <…> Нас зовут <…> на самую грань нашего мира, куда уже падают тени инобытия. Неужели все мы не поспешим туда, готовые тысячу раз ошибиться ради одной молнии такой надежды?»[517] Минцлова с таким представлением об устроении мира и способах его постижения связывалась совершенно отчетливо. К уже высказанным соображениям добавим цитату из письма Александра Бенуа к К. А. Сомову, с Минцловой довольно близко знакомому: «„Историческое ясновидение“ — да, это та проблема, которая наиболее меня волнует, для разрешения которой я нахожу больше всего материала в самом себе. „Разрешение“ — это неверно. Надо б сказать разрешение, ибо конечное разрешение все равно немыслимо (да и не нужно)»[518]. Сверхчувственное откровение оказывалось важно не само по себе, а как часть длительного процесса проникновения в суть вселенной, истории, человека.