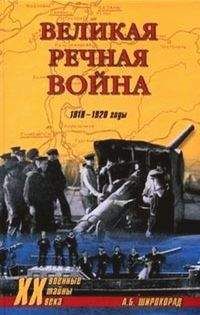Михаил Булавин - Боевой 19-й
Зиновея облепили ребятишки. Они были у него на коленях, на плечах, он обнимал их, прижимал к себе, смеялся и щекотал колючей щетиной подбородка.
— Ну, предсказал я тебе, Настя, что придет твой,— ваговорил с порога Семен. — Здорово, Зиновей! Здорово, Устин! Ну, вот и снова довелось свидеться. А ну, покажитесь! Что ж, добрые мужики, — шутил он, обнимая красноармейцев. — А вот я, братишки, вернулся инвалидом. Не повезло мне под Тамбовом.
Настя металась по горнице, подбегая то к печке, то к столу, то выскакивала в сенцы, приготовляя обед дорогим гостям.
Устин медленно ходил по горнице, и было заметно, что его беспокоит и волнует какая-то мысль. Он то отвечал невпопад, то просто молчал, рассеянно поглядывая в окно, то снова принимался ходить.
— Да сядь же ты, Устин, — уговаривала Арина, усаживая Хрущева на скамью. — Пусть бабы хоть поглядят на тебя, какой ты стал.
Семен отозвал Арину, что-то пошептал ей, и она сейчас же исчезла.
Устин приблизился к Насте, когда та стояла у печи, и хотел поговорить с^ней о том, что его беспокоило. Но в это время подошел Семен.
— Настй, поди сюда. Да оторвись от нее, Устии. У меня наказ. Возьми-ка, Настя, сумочку да посудину, какая поболе. Мы сейчас вернемся.
— А где Еркины ребятишки? — спросил Устин у Арины.
— А где ж им быть! — удивилась Арина. — У меня. Я детишков люблю и никому не отдам. Сельсовет мне на них хлеб и картошку, а когда й мясо дает. Ната-шечка помогает, то обувкой, то одежонкой. Хата у меня большая, теплая. Живем, слава те богу, не пропадаем.
И спросить бы Устину о Наталье, но разговор шел обо всем сразу, люди перебивали друг друга и Устин никак не мог попасть в тон.
Наталья прибежала домой и, не снимая шубы, села за стол. Ее душили слезы. Семен своим сбивчивым предложением уйти домой как бы подтвердил, что сейчас место Натальи не там, а дома. И в ту минуту, когда все обрадовались возвращению красноармейцев и выбежали на улицу, она не смела присоединиться к односельчанам. Наталья растерялась и не знала; как себя вести. Ей хотелось увидеть Устина хоть краем глаза, но она подавила в себе это желание и не пошла к хате Блинова из боязни попасть в смешное положение и быть оскорбленной невниманием. Она переживала страшное смятение. Ей казалось, что она стала уже не той, какой была, и не имела права с достоинством встретить любимого человека. О прошлом она не могла вспоминать без содрогания. Порой ей даже представлялось, что на нее смотрят не так, как на других. В такие минуты она жаловалась Арине на людскую несправедливость и плакала, хотя и сама понимала, что, может бьГгь, все это ей кажется и в ней говорит обостренное самолюбие, излишняя подозрительность...
Сейчас смешались все чувства — и радость, и горькая обида, и жалость к себе, и ревность к Устину, и непонятная обида к тем, кто приветил его.
Думалось, приди сейчас он, — а как бы она этого желала, — она не только не пустила бы его, а прогнала бы прочь...
«Ох, нет же, нет! Неправда это!»
Горели щеки, от волненья кружилась голова. Она глянула в зеркало и отшатнулась. Она увидела жалкое лицо, покрытое красными пятнами. Уйти, убежать бы куда-нибудь!.. Она вдруг сжалась вся в комок и вскрикнула.
На пороге стояла Арина. Наталья бросилась к ней и забилась в рыданиях.
— Ну чего ты? Уймись. Эх ты, горькая моя головушка. Сядь-ка вот сюда... Может быть, к Насте пойдем?
— Ой, что ты, Аринушка! — испуганно всхлипнула Наталья.
— Ну да уж ладно. Не надо. Ты иди-ка ко мне. С ребятишками посиди, а я от Насти вернусь рано. Ну, пойдем, что ли? Что ты будешь сидеть одна да скучать?
Наталья успокоилась и согласилась. Теперь в ней как будто все перегорело и наступило тупое равнодушие. Она ополоснула лицо холодной водой, закутала голову платком, закрыла дверь и, прячась за Арину, пошла к ней.
Но потом, когда ушла Арина, что только она не передумала и чего не вспомнила. А поздно вечером, когда уснули Аринины ребятишки, Наталью охватило чувство жгучего любопытства. Что расскажет ей Арина об У-стине, вспомнит ли он о Наталье. Но при мысли о том, что бабы во хмелю тоже расскажут Устину о ней, она вздрагивала, стискивала зубы и в жгут скручивала платок.
Пропели первые петухи, когда возвратилась Арина, возбужденная и веселая.
Наталья не спрашивала ее ни о чем, но с мучительным нетерпением ожидала, когда та сама заговорит об Устине.
Но Арина рассказывала о Зиновее, о Настиной радости, о том, что пришлось пережить солдатам, а потом зевнула и как бы мимоходом сказала:
— Но тебе Устин спросил. Как, мол, Наталья Пашкова живет? И Митяя помянул. Ну-ка, давай, милая, ложиться спать. Поздно уже, устала я, да и хмель в ноги вступил.
И снова холодок горького разочарования коснулся сердца, и Наталья покорно ответила:
— Ну что ж, Аринушка* будем спать.
Она только к утру забылась, а проснулась так, как люди, которые боятся опоздать на поезд. Быстро оделась и пошла домой. Долго мыла лицо, причесывалась,
надела новое платье, гляделась в зеркало и, словно разговаривая со своим отражением, задумчиво качала головой.
В сельсовет идти было еще рано, и она не спеша завязывала пуховой платок, тщательно расправляя его концы с пушистыми кисточками.
Устин встал рано и крадучись пошел к Натальиной хате. Он еще не решил, зайдет ли к ней или пройдет мимо.
Хоть и старался он принять непринужденный и независимый вид, однако чувствовал себя неуверенно. Ему казалось, что все видели и знали, куда он направлялся. При встрече со знакомыми Устин по солдатской привычке козырял, на приглашение зайти — отказывался, ссылаясь на всякие незначительные причины, и обещался обязательно заглянуть вечерком. Знал, что' в селе начнутся суды да пересуды. В одной хате скажут: «Дай-то бог, чтоб у них поладилось», а в другой позавидуют Наталье Пашковой, в третьей посетуют на Устина: «Да что он привязался к ней, аль девок мало на селе?»
«Да что я, краденый? — вспомнил он слова Зино-вея. — Или не волен зайти, к кому захочу?» Плюнул с досады, оправил шинель, фуражку и двинулся вперед широким солдатским шагом. Но смелость оставила его, как только он завидел Натальину хату.' Он уже стал подумывать, как бы повернуть обратно, но неожиданно увидел Наталью на пороге хаты.
— Здравствуй, Наталья! — с трудом выговорил Устин.
Она заметила, что он назвал ее не так, как раньше. Медленно подняла глаза и, глянув ему в лицо, печально сказала:
— Здравствуй, Устин!
— Вот ты какая! — сказал он, как бы изумляясь.
— Какая же? — вспыхнула она и вскинула голову.
Устин смутился. Он вспомнил, как вчера плакала
Арина, рассказывая ему о Наталье, и, не ответив, шагнул к ней.
— Мне идти надо, Устин, — словно отстраняя его от себя, сказала Наталья,
— Куда? — спросил он ласково и робко взял за РУку.
—. В сельсовет. Пусти же, — попросила она и снова посмотрела на него печальными глазами.
— Наталья! — выдохнул он, едва удерживая себя от желания обнять ее
Она вздрогнула и насторожилась.
— Мне нужно идти.
— А может, задержишься? Мне поговорить с тобой. .. — сказал он нерешительно.
— О чем? — грустно улыбнулась она. — Больше того, что ты знаешь, я не скажу тебе.
— Ну... меня послушай.
Она молчала и смотрела в сторону. На глаза навернулись слезы. Наталья глубоко вздохнула и, не ответив ему, заложила руки в карманы и медленно пошла от хаты на дорогу.
— Наташа! — позвал он.
— Ну? — глухо ответила она, не поворачивая головы.
— Зайди в хату.
Но она упрямо шла вперед. Устин постоял, затем открыл дверь и шагнул в горницу. Она была такою же, как и в тот последний раз, когда он заходил к Наталье, с той же крестьянской обстановкой среднего достатка. Скамья и сундук накрыты узорчатой шерстяной тканью, машина швейная — белой холстиной. Взбитая постель с высокими подушками в наволочках с кружевными прошвами бела, как снег. На стене те же карточки, на которых был снят он с Митяем. В горнице уютно, чисто.