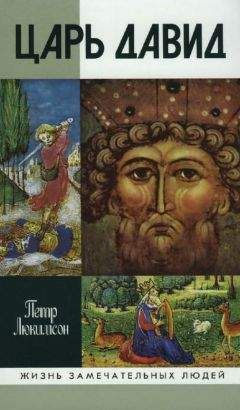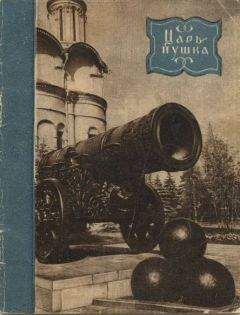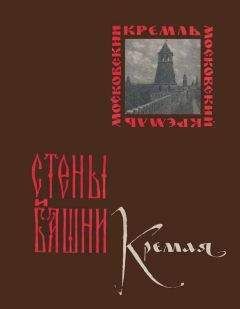Сергей Карпущенко - Лже-Петр - царь московитов
Шенберг, трясясь в карете, поставленной на полозья, закрывал глаза, и в сознании всплывали глумливые рожи кузнецов, кухарок, кожевников. Люди кидали в него камнями, женщины подбегали и дергали за волосы, плевали в лицо, и к эшафоту он был подведен уже в изорванной одежде, окровавленный, облитый нечистотами. А на эшафоте - не плаха и палач с топором. Нет скамья и свисающая над ней веревка, удел уличных воров. И конец, и темнота, вечная темнота... "Неужели, - думал он, - власть, добытая нечестивым путем, всегда ведет к дурному концу? Нет, не хочу! Я должен что-то предпринять, но вот только что? Кто сможет дать мне совет? Да, Меншиков! Он лучше всех осведомлен о том, что
* Истинный факт. Петр I отдавал такие приказы, боясь, что мясо, столь необходимое для находящегося в постоянном движении солдата, в посты будет забыто ими. Солдаты отказывались есть "скоромное" в пост и во время Русско-турецкой войны 1735-39 гг. - Прим. автора.
происходит в Гродно и рядом с ним. Нужно немедленно вызвать Данилыча, ведь он так зависим от меня. Так же, впрочем, как и я от него".
Лже-Петр, не выходя из кареты, достал походный прибор для письма. Брызгая чернилами, косым, узловатым почерком, разобрать который было под силу не каждому и который когда-то был тщательно копирован им с писем настоящего Петра, Лже-Петр за две минуты набросал на листе хорошей голландской бумаги приказ Меншикову срочно выехать из Гродно и мчаться в сторону Дубровны, куда и он прибудет вскоре. Запечатав письмо красным сургучом, по которому прошелся, предварительно подышав на нее, своей личной печаткой, Петр опустил кожаную занавесь на оконце кареты, кликнул лейб-курьера, скакавшего неподалеку от возка, велел ему с великой осторожностью, окольными путями ехать в Гродно и передать письмо лично в руки генерал-губернатора Меншикова. Лейб-курьер тщательно обернул письмо куском кожи, укрыл его где-то на груди, под кафтаном и полушубком, отдал честь и поскакал вперед, чтобы через полминуты скрыться в пелене падающего на землю снега.
Снег падал и тогда, когда Александр Данилыч Меншиков в длинной епанче, подбитой куньим мехом, в труголке с золотым позументом по краю, шел в сопровождении двух подпоручиков, взятых в качестве охраны, по улице Гродно. Аникита Иванович Репнин, князь, генерал, молодой ещё - нет сорока, весь румяный от мороза, попался ему навстречу как бы случайно, но Данилыч его тут же за руки схватил, в сторону отвел, зашептал, дыша на Репнина водочным перегаром и запахом чеснока:
- Никита, уезжаю, письмо пришло от Шведа. Самозванец требует немедленного моего прибытия в Дубровну, куда и сам приедет вскоре. Ах, чует мое сердце, что в Гродно нарочно он нас зимовать оставил! Мню, что сговор был у него с Карлушкой, иначе б такой оплошности не допустил. И вот теперь меня к себе зовет. Наверно, хочет на немца оного, на Огильви, оставить весь наш корпус. Знает, что Огильви токмо саксонский интерес блюдет.
- Как же мы без тебя-то здесь, Данилыч? - нахмурился Репнин.
- Вот в том-то и загвоздка, князь. Таперя будешь ты здесь главный. За Огильви следи всечасно. Если каверзу задумает какую, под арест бери, на царя ссылайся - не бойся ничего. Я же на Шведа посмотрю - ежели замечу, что плутует, что вместе с Карлом замыслил так, чтоб корпус наш в окружение попал, арестую, в Москву отправлю к Ромодановскому. Пусть пятки ему прижжет. Войну со шведами докончим сами, а после сына настоящего царя на царствие помажем. Ему уж шестнадцать лет. Царь Михаил Феодорович Романов в такие ж лета править стал. Короче говоря, посмотрим, но самозванцу из нас бирюльки делать не позволю.
Данилыч порывисто обнял Репнина, крепко расцеловал его и к дому своему пошел.
В Дубровну прибыл он уже тогда, когда в просторном доме какого-то купца там поселился Петр. Ехать пришлось путями длинными, в объезд, чтобы не попасть в полон к рыскающим повсюду шведам. Шубу бросил на руки царева денщика. Лже-Петр, сгорбившись, подобный какой-то страшной птице, над картой распластался - руки раскинуты, волосы длинные до стола свисают. Здесь же - два незнакомых Меншикову иноземца-генерала и капитан Павел Иванович Ягужинский. Лже-Петр, едва завидев Данилыча, выпучил глаза, бросился к нему, стал обнимать, расспрашивать, повел к столу.
Все подробно рассказал ему Данилыч, а сам внимательно следил за выражением лица самозванца, стремясь увидеть фальшь, наигранное переживание, лживую заботу. Но ничего такого не приметил Меншиков - видел лишь, сколь позеленело то ли от болезни, то ли от забот лицо правителя Руси. Все было интересно Лже-Петру, вопросы задавал он жадно, жадно же ждал ответа, тут уж Данилыч не мог приметить лукавства.
- Эх! - наконец ударил Лже-Петр кулаком по столу. - Как допустил я то, что в Гродно оставил корпус зимовать! Я виноват во всем, я один!
- Не спеши раскаиваться, мин херц, - сказал Алексашка, замечая одну лишь искренность в словах Лже-Петра. - Может, и отсидятся, хоть и на скудном харче, да перезимуют. К тому же от Августа, как обещал король, должна идти подмога к Гродно. Двадцать тысяч да ещё четыре наших-то полка драгунских. Такие силы все партии Карлуши от дорог прогонят, мы же им ко времени тому провианта наготовим и тут же в Гродно и зашлем. Штурмовать же город Карл не решится.
Но Лже-Петр помотал патлами:
- Нет, Сашка, ты его не знаешь! Месяц пройдет, поморит он моих служивых голодом, а потом пойдет на приступ. Что ему пятнадцать пушек? Сие ж - медведю заноза, он оные орудия и не заметит. Ей-ей, принудит корпус к сдаче. Огильви-старик крепко обороняться не станет. А вот ежели сикурс от Августа подоспеет, это меняет дело. Будем на короля иметь надежду. Он в прошлом годе столько денег у меня перебрал, что в подмоге не откажет...
Ни Лже-Петр, ни Меншиков ещё не знали, что король Август и в самом деле послал к Гродно двадцать тысяч саксонцев и русских драгун, но не знали самозванец и Данилыч и того, что в начале февраля при Фрауштадте на двигающееся к осажденному Гродно войску напали двенадцать тысяч шведов, которых вел смелый Реншельд. Саксонцы, чуть ли не в открытую роптавшие на своего курфюрста за то, что он ввязался в войну с Карлом, защищались вяло, даже отстреливаться не хотели. Шведы развеяли их войско за какой-то час, потом взялись за русских, пытавшихся обороняться крепко. Но видели русские драгуны, что союзники их предали, что шведов очень много, и начали сдаваться, полагая, что милосердие в сердцах врага возьмет верх над жестокостью. Но никого из русских не пощадили шведы. Кололи шпагами тех, кто бросал оружие, кто поднимал руки или вставал на колени, рубили палашами, гарцуя на лошадях вокруг сгрудившихся, переставших сопротивляться русских, стреляли в них из пистолетов, в сторону отъезжая, не торопясь, с ухмылкой, заряжали оружие, даже не стремясь запыжить - для чего! Снова подъезжали и палили. Варвары не стоили их милосердия. Саксонцам же сохранили жизнь...
Когда весть о поражении посланных к Гродно войск Августа дошла до Лже-Петра, когда ему поведали, как обошлись победители с русскими, он, казалось, потерял дар речи больше чем на час. Как каменная статуя, положив руки на стол ладонями вниз, просидел он, глядя куда-то в пустоту, в неподвижности полной. Потом, медленно перекрестившись, сказал - Меншиков, что был рядом, услыхал:
- Донеже* преследует меня Судьба... Помощи ныне ждать уж неоткуда.
Меншиков хотел слова утешения сказать, но за дверьми, на лестнице, что вела в нижние покои дома, в сени, застучало, загремело что-то, чьи-то голоса забухали внизу, просящие и возмущенные. Все ближе шум к дверям, все ближе. Меншиков, не понимая, что происходит, на рукоятку одного из пистолетов, что за пояс заткнуты были, руку положил. Вдруг дверь распахнулась, и в покой в шубе заснеженной и в такой же шапке ввалился кто-то роста преогромного. Встал у двери задыхаясь, будто тяжко ему дался по лестнице подъем. Два денщика, дежуривших внизу, в него вцепились, жаловался один:
- Ваше величество, великий государь! Мы не пускали! Сам он...
Лже-Петр, шпажный эфес ощупывая рукой дрожащей, сказал:
- Так-то бережете мою особу... холопы! Прочь пошли!
Когда денщики, смущенно кланяясь, удалились, Лже-Петр, видя на незнакомце шубу с богатым песцовым воротником, предполагая в персоне, явившейся внезапно и без спросу, человека незаурядного, строго, однако, у него спросил:
- Чего хотел и по какому праву врываешься ты в дом, где государь России жить изволит?
Вместо ответа незнакомец скинул шапку, шубу, бросил у входа. В свете двадцати горящих в комнате свечей на форменном его кафтане синего сукна сверкнули золотые позументы, пущенные по лацканам, по краю обшлагов, по полам, драгоценный генеральский шарф с кистями, позлащенные ж рукоятка шпаги и офицерский знак под подбородком. Но, главное, на Лже-Петра и Меншикова смотрело донельзя знакомое им лицо. Самозванец же, вглядевшись в физиономию пришедшего, даже отшатнулся. Он видел в нем самого себя, до того похожими казались каждая черта лица, жесты, фигура.