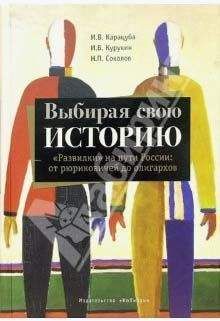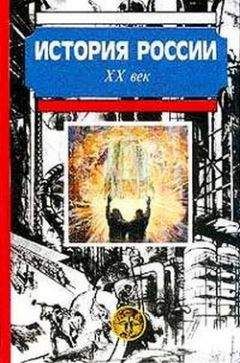Ирина Карацуба - Выбирая свою историю."Развилки" на пути России: от Рюриковичей до олигархов
Бакунин был готов помочь. Он выдал Нечаеву мандат за собственной подписью, гласивший: «Податель сего есть один из представителей русского отдела Всемирного революционного союза, № 2771». Впечатляющий порядковый номер должен был уверить всякого, что «податель» принадлежит к могущественной организации. Мандат был мистификацией — во «Всемирном революционном союзе» состояли едва полторы дюжины анархистов, сторонников Бакунина в I Интернационале.
Бакунин же уговорил Огарева посвятить Нечаеву стихотворение «Студент», где повествовалось о молодом борце за свободу народа, который «жизнь окончил в этом мире в снежных каторгах Сибири».
Экипировавшись таким образом, Нечаев отправляется в Россию, где приступает к вербовке членов «Народной расправы» при помощи шантажа и провокаций. Организация строилась по принципу, заимствованному из опыта французских «бешеных» (тайного общества, созданного в 1796 г. Гракхом Бабефом для организации восстания), — «пятерками». Только один из членов такой пятерки — «организатор» входил в вышестоящую, увенчивал эту иерархию таинственный и всесильный Комитет. За несколько месяцев Нечаеву удалось привлечь под свои знамена около семидесяти человек. Однако вскоре его мистификаторские приемы вызвали протест студента Петровской земледельческой академии Ивана Иванова. Он отказался выполнить очередное распоряжение Нечаева, настаивавшего, будто это воля Комитета. «Комитет всегда решает точь-в-точь, как вы желаете», — отрезал Иванов Нечаеву и объявил о выходе из организации.
Иванов был не только членом центрального московского кружка, но и пользовался в студенческой среде большим влиянием. Авторитет Нечаева оказался под угрозой, которую он и поспешил ликвидировать, одновременно «сцементировав кровью» организацию.
21 ноября 1869 г. в гроте Петровского парка на тихой, почти дачной окраине Москвы четверо членов «Народной расправы» убили Иванова. В числе убийц был и почтенный отец семейства сорокалетний литератор Иван Прыжов, автор знаменитой «Истории кабаков в России». Убивали, не умеючи, долго и мучительно, били камнями и кулаками, пытались душить руками, и только когда Иванов перестал подавать признаки жизни, Нечаев вспомнил о лежащем у него в кармане револьвере и для верности выстрелил трупу в голову. Тело сбросили в пруд, где его на другой день обнаружила полиция, которая в течение нескольких недель выявила и арестовала всех членов организации, но сам Нечаев успел бежать за границу.
Дело об убийстве Иванова слушалось летом 1871 г. — это был один из первых судебных процессов, проводившихся гласно, в соответствии с новыми судебными уставами. Подробности «нечаевщины» попали в газетные отчеты и произвели на публику ошеломляющее действие. Ф.М. Достоевский в романе «Бесы», написанном под впечатлением этих отчетов, обобщил явление «нечаевщины» до общенационального бедствия — «бесовщины». Ему возражал Н.К. Михайловский, популярный критик демократического лагеря, утверждавший, что нечаевская «история» — «печальное, ошибочное и преступное исключение». Этот взгляд всячески пропагандировали в советские времена. Революционеры должны были представать в истории людьми «с чистыми руками и горячим сердцем».
Между тем методы Нечаева вызвали отвращение отнюдь не у всех современников. Вера Фигнер, учившаяся в 1872 г. в Швейцарии, в момент поимки Нечаева и выдачи его швейцарскими властями России как уголовного преступника даже удивлялась, что «общественное мнение Швейцарии было настроено неблагоприятно для Нечаева» и «агитация, поднятая кружком цюрихских эмигрантов... в пользу Нечаева, успеха не имела». Только небольшая группа студентов, в том числе сербов, предприняла неудачную попытку «отбить» Нечаева на железнодорожном вокзале при отправке его в Россию.
Для многих современников только нечаевский образ действий и означал собственно революционную борьбу. В.К. Дебогорий-Мокриевич, один из видных народовольцев, вспоминал о впечатлении, произведенном на него судебным процессом нечаевцев в 1871 г., когда сам он был студентом Киевского университета: «показания обвиняемого Успенского, оправдывавшего свое участив в убийстве студента Иванова тем соображением, что для спасения жизни двадцати человек всегда дозволительно убить одного, казались нам чрезвычайно логичными и доказательными. Рассуждая на эту тему, мы додумались до признания принципа "цель оправдывает средства". Так мало-помалу мы приблизились к революционному мировоззрению...»
Так что по справедливому замечанию одного из лучших знатоков этой эпохи историка Б.П. Козьмина «нечаевское дело... предвосхищает в некоторых отношениях ту постановку революционного дела, какую оно получило в следующее десятилетие». Однако эта «постановка революционного дела» утвердилась не вдруг. Спор между сторонниками бескровного социального переворота, совершаемого просвещенным народом, и апологетами революции, приводящей к власти группу заговорщиков, которая уже при помощи государственного насилия над большинством меняет социальный строй, не был завершен. Сложность заключалась в том, что народ представлял для обеих партий величину совершенно неизвестную, наподобие «икса» в алгебраическом уравнении. Выбор той или иной модели революции во многом зависел от решения этого уравнения.
«Демократо-туристические странствования»
Естественным представлялся путь, намеченный Николаем Огаревым в письме к друзьям еще в 1836 г.: «Снимите ваш фрак, наденьте серый кафтан, вмешайтесь в толпу, страдайте с нею, пробудите в ней сочувствие, возвысьте ее; ее возвышение будет глас, трубный!..»
Подобные призывы идеологов, носителей высокой культуры, исторически связанной в России с дворянским сословием, вызвали весьма своеобразную реакцию в той среде, которая оказалась к ним наиболее восприимчивой — среде разночинной молодежи, сделавшейся главной опорой и главным поставщиком радикально-оппозиционных сил в 1860—1880-е гг. По самому своему происхождению этот слой людей, вышедших из податных сословий и не получивших дворянских прав, оказывался в культурном отношении маргинальным. Отстраняясь и часто презирая обычаи и культурный обиход социальной группы, которую они покинули (как правило, это были бывшие мещане и поповичи), и поверхностно освоив высокую культуру, эти люди по недостатку образования не могли глубоко вникать в тонкости теоретических рассуждений учителей социализма.
Господствующее умонастроение этой среды в начале 1860-х гг. противники называли «нигилизмом» (слово это вошло в широкий обиход после выхода в 1862 г. романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», где разночинец был представлен фигурой Базарова). Нигилисты стремились не принимать безусловно на веру традиционные ценности и обычаи, поверяя их ценность наукой. Однако сама наука становилась в силу культурных особенностей этой среды объектом веры. Научные гипотезы, вроде дарвиновской теории происхождения человека от приматов или теории немецкого естествоиспытателя Бюхнера о тождестве сознания и химических процессов в человеческом организме, без подобающей критической оценки становились объектом веры.
Одновременно со стремлением к строгому знанию у разночинцев была сильна «потребность в религиозном построении». «С разных сторон, — вспоминал видный участник движения О.В. Аптекман, — мне приходилось слышать такого рода суждения: мир утопает во зле и неправде; чтобы спасти его, недостаточна наука, бессильна философия; только религия — религия сердца может дать человечеству счастье». Смертельно больной Нечаев просил позвать к нему священника для беседы и причастия — ему как извергу в этом отказали (кстати, умер он в 1882 г. 21 ноября, в годовщину убийства Иванова). Перед казнью, стоя на эшафоте, руководитель «Народной воли» Андрей Желябов поцеловал крест. Советские биографы террориста, утверждая, что «этот поцелуй предназначался для толпы, иначе эти темные суеверные люди сочтут революционеров выродками», кажется, сильно упрощали действительность. Многие из народников видели существо христианского учения в том, чтобы «отдать всего себя на служение другим», а «на этой почве уже нетрудно было усвоить и учение шестидесятых годов о долге перед народом, о необходимости заплатить ему за все блага, полученные от рождения».
Воображаемый народ, носитель и хранитель общинного идеала, наделялся всеми мыслимыми достоинствами. Считалось, что «народ сам укажет интеллигенту, желающему слиться с ним, что он должен делать и куда направить свои силы».
При таком настроении «хождение в народ» выходило за рамки простой общественной кампании, становилось таинством приобщения к предмету обожания. Крестьянство для народников этого начального этапа было не просто силой в политической борьбе, оно было объектом веры и поклонения. В.К. Дебогорий-Мокриевич сравнивал его с «таинством евхаристии». Степняк-Кравчинский, деятельный участник движения, отмечал в своих воспоминаниях, что «тип пропагандиста семидесятых годов принадлежал к тем, которые выдвигаются скорей религиозными, чем революционными движениями». И соответственно движение интеллигенции в народ было «скорее каким-то крестовым' походом, отличаясь вполне заразительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения».