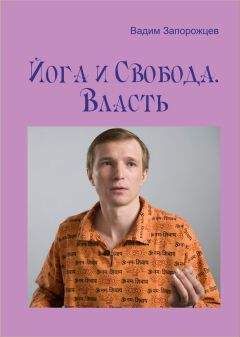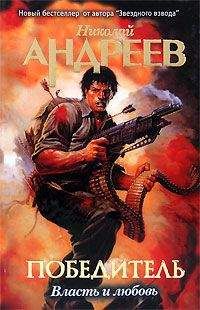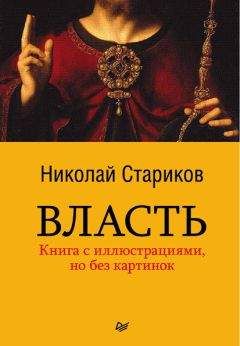Павел Милюков - Воспоминания (1859-1917) (Том 1)
"Либеральная буржуазия" продолжала, вместе с меньшевиками, считать Совет "органом революционного самоуправления". А. С. Суворин знал больше, когда принялся в своем "Новом времени" дразнить Витте, что около него стоит "второе правительство". Мы видели, что так и было в планах Троцкого.
Троцкий же и нашел объяснение, почему эта затея провалилась. Оказывается, Ленин "запоздал приехать из-за границы", и без него большевики были "беспомощны". Но у Троцкого было и другое объяснение: "Все элементы победоносной революции были налицо, но эти элементы еще не созрели".
Это было вернее; но когда из этого признания делался вывод, что, стало быть, "несозревшая" революция не могла быть "победоносной", то Троцкий отступал на свою последнюю позицию; пусть так; но революция "перманентна", и если она еще не побеждает, то создает рекорды, производит "генеральные репетиции" и когда-нибудь победит.
Вернувшийся, наконец, в Петербург Ленин сразу заметил, побывав анонимно на хорах Вольной экономии, что "здесь - говорильня", "рабочий парламент", а нужен орган власти, орган партийного руководства большевиков надвинувшейся революционной развязкой. И {344} "боевая организация" партии приступила к подготовке вооруженного восстания.
Как же ко всему этому относились кадеты? Я уже говорил, что мы много не знали - в частности, не заметили и перехода руководства Советом Рабочих Депутатов к большевикам. Требование Совета на другой день после манифеста 17 октября об "удалении из города войск" и о "выдаче оружия пролетариату" нам показалось просто наивным. Провал ближайшей, ноябрьской стачки за введение восьмичасового рабочего дня вызвал наше неодобрение продолжению стачек, а меньшевики еще могли тогда осуждать своих левых за "разрыв с буржуазией". Неудача второй "политической" забастовки - против суда над восставшими кронштадтскими матросами и против введения военного положения в Польше - вызвала даже телеграмму И. И. Петрункевича к Витте с просьбой о снятии военного положения - и Витте уступил.
Но надо было где-то положить, наконец, предел нашему "сотрудничеству", которое, при настойчивой подготовке вооруженного восстания большевиками, представлялось всё более двусмысленным. Лозунг вооруженного восстания становился среди молодежи таким же непререкаемым и сам собою разумеющимся, как прежде лозунг Учредительного Собрания и всеобщего избирательного права. Припоминаю маленький эпизод на одном из деловых заседаний Вольного Экономического Общества. Председательствует корректный гр. Гейден. Помещение переполнено молодежью. По рядам публики ходит интеллигентский котелок - и передается, ничтоже сумняшеся, на эстраду президиума. Гр. Гейден берет шляпу, принимает непроницаемый вид и передает ее Н. Ф. Анненскому. Лицо Анненского расплывается в самую радостную из его улыбок: он передает котелок мне. Я усматриваю на дне смятую бумажку с лаконической надписью карандашом: "на в. в.". Анненский нагибается ко мне и поясняет шепотом: "это - на вооруженное восстание"! Я передаю пустой котелок дальше. Президиум из октябриста, кадета и социал-революционера выразили свое отношение к лозунгу по-разному, но, в общем, чем-то вроде дружественного нейтралитета. На фабриках эти головные уборы делали полный сбор... Итак, что же? Мы за или против? Я на этот раз {345} получил возможность высказаться лично и путем печати. Я благодарен судьбе за эту данную мне возможность. Дело в том, что как раз к декабрю и к началу московского вооруженного восстания я сделался журналистом и редактором печатного органа. Это были месяцы, когда органы печати возникали "явочным порядком", без всякого разрешения, и вмешательство цензуры было минимальное. Читатель вспомнит "нахальный тон" Проппера и обращенные к Витте его требования о выводе войск и об образовании народной милиции (это -требования Совета Рабочих Депутатов). Хозяин трех газет, называвшихся в просторечии "Биржевками", - утренней, вечерней и провинциальной, - гордившийся раньше тем, что ходит "к Витте", был предпринимателем с нюхом. Он как-то почувствовал, что ветер дует в сторону к. д. и он решил поставить ставку на кадетов, передав нам в полное распоряжение наименее доходную из трех "Биржевок" - утреннюю. Руководство газетой должно было принадлежать мне, И. В. Гессену и М. И. Ганфману. Только этот последний был тогда настоящим газетчиком; нам предстояло еще учиться. Но я смело взялся за работу. Всех старых работников и сотрудников мы удалили, по соглашению с Проппером.
В опустевшем помещении мне пришлось в первые дни - или, точнее, ночи простаивать у наборной кассы, работать за метранпажа, просматривать кучи принесенного репортажа, проверять гранки, а в промежутках засаживаться где-нибудь на углу стола за передовицу или заполнять оказавшиеся пробелы статейками и заметками на всевозможные темы. Это была тяжелая школа, но она послужила для меня посвящением в журналисты: это третье звание прибавилось к прошлым двум, историка и политика. Главным моим учителем был М. И. Ганфман, человек огромных знаний в журнальном мире - и неподкупной честности, - не партийный и более левый, чем мы, но в профессиональной работе отлагавший в сторону собственные взгляды.
Существовали мы очень недолго. Сперва газета называлась, по имени партии, "Народной свободой". Потом, закрытая за напечатание финансово-экономического "манифеста" Совета Рабочих Депутатов, вышла на свет под названием "Свободного народа". И, наконец, была закрыта 20 декабря вторично, причем Проппер уже {346} решил признать свой эксперимент с нами неудавшимся и вернулся к своей утренней "Биржевке". А за эти короткие недели Витте успел, наконец, под впечатлением восстания севастопольских матросов, сперва арестовать Хрусталева-Носаря (26 ноября), а потом (3 декабря) и весь Совет Рабочих Депутатов в составе 267 членов, в помещении Вольного Экономического Общества. Руководители Совета ответили вооруженным восстанием в Москве (9-20 декабря); но оно было быстро подавлено правительственными войсками в день окончательного закрытия нашей газеты.
Предупредить вооруженное восстание мы, конечно, в такие сроки и при таком настроении левых, никоим образом не могли. Но нашу политическую позицию мы проявили с полной ясностью. Я уже чувствовал себя достаточно в седле, чтобы не бояться в этот решающий момент разойтись в мнениях с партией, и мог откликнуться на трагедию московских дней от имени целого политического течения.
В самых настойчивых выражениях, за несколько дней до начала восстания, я предупреждал о неизбежности его поражения. Я напоминал и о той общей опасности, которою провал левых грозил общему ходу революционного движения. От этого общего дела мы еще себя не отделяли формально.
Позволю себе привести подлинные выдержки из этих немногих номеров нашего органа. В самом первом номере "Народной свободы" я писал: "Мы хорошо понимаем и вполне признаем верховное право революции, как фактора, создающего грядущее право в открытой борьбе с историческим правом отжившего уже ныне политического строя. Но мы не обоготворяем революции, не делаем из нее фетиша и так же хорошо помним, что революция есть только метод, способ борьбы, а не цель сама по себе. Этот метод... плох, если он вредит тому делу, которому хочет служить. И цели, и приемы русского революционного движения должны быть предметом серьезной и независимой общественной критики... Заниматься такой критикой - вовсе не значит ослаблять то революционное настроение, которому мы все обязаны столькими важными завоеваниями".
Далее, я указывал (увы, ошибочно по отношению к большевикам, которых еще не замечал как особой группы), {347} что сами революционные организации "постепенно отказываются от переоценки собственных сил". Я лишь выражал опасение, что "официальный революционный жаргон гораздо труднее переделать, чем изменить убеждение отдельных лиц". Всё же я выражал надежду, что "рано или поздно они признают, ...что в их надежде одолеть технические силы государства путем прямого вооруженного восстания, - ив другой их надежде сделать Россию немедленно демократической республикой - заключалась - или заключается - очень большая доза переоценки собственных сил". Я напоминал, что "есть известный предел, за которым созидательная и творческая сила революционной пропаганды становится разрушительной, и вчерашний друг и союзник может завтра стать ожесточенным врагом. Мы близко подходим к этому пределу, если слишком часто и легко прибегаем к таким сильно действующим тактическим средствам, как, например, политическая забастовка: средствам, рассчитанным на революционный энтузиазм и нарушающим, более или менее глубоко, нормальный ход жизни в стране". А "от настроения нейтральных элементов в значительной степени зависит судьба русской революции". "Оттуда, из этих низов, выходят погромы и аграрные пожары... Туда надо идти, чтобы иметь право пророчествовать о будущем русской революции".