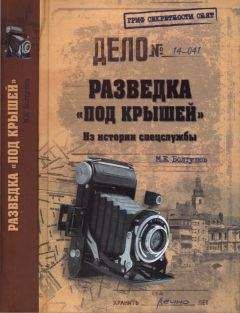Иван Лажечников - Несколько заметок и воспоминаний по поводу статьи Материалы для биографии А П Ермолова
Николая Матвеевича, несмотря на его скопидомство, уважали в околотке за прямоту и благородство его характера. Сельский дом его, за сооружение которого не заплачено было архитектору ни копейки, представлял амальгаму разных пристроек. Когда, с течением времени, нужно было, смотря по хозяйственным или семейным потребностям, расширять его, тогда приставлялись к дому, то там, то тут, как грибные наросты, срубы и связывались с капитальною стеной железными связями.
У него были огромные плодовитые сады, ни одного увеселительного; все для выгод - ничего для удовольствия. Впрочем, в этих выгодах наши деды и находили удовольствие, а гулять, говорили они, можно и в плодовитом саду, и в роще, среди села. Здесь они потешали свой слух пением грачей, которых берегли, как святую птицу. В день приезда племянника графа и в день ангела хозяина, за обеденным столом раздавались увертюры и симфонии из старинных опер, порядочно разыгрываемые; за стулом каждого гостя стояло по слуге. А в будни, в праздное время, а его было много у них, артисты и прислуга занимались вязанием шерстяных чулок и перчаток. От продажи этого изделья в свою пользу, они услаждали жизнь свою и своих семейств лакомым куском и умеренными по-своему прихотями. В упомянутые торжественные дни подавали к столу гигантские индейки, откормленные на славу, и в рюмочках, немного побольше наперстка, венгерское вино, стоявшее в подвале несколько десятков лет, и диковинные наливки. Самовары при Екатерине не были еще в общем употреблении; чай делали в металлических чайниках, в которых кипятили его на спиртовых жаровеньках (вопреки автору "Таинственного монаха" Р.М.Зотову{471}, начинающему свой исторический роман из времен Петра I чаепитием за самоваром). И у Николая Матвеевича приготовляли чай по старине. Чтобы не раздроблять общинных земель и не отрезывать от своих господских, Николай Матвеевич редко разрешал крестьянам свадьбы, с которыми неминуемо сопряжены были наложение нового тягла и отрезка земли. Кажется, он делал это только в селе Степановском. Последствия такого экономического порядка a la Мальтус были очень пагубны для нравственности крестьян. Нередко в генеральских прудах находили мертвых, брошенных туда, незаконнорожденных детей. Впрочем, крестьяне его были довольно зажиточны, дворовые, когда он умер, искренно его оплакивали. По смерти Николая Матвеевича, мне поручен был, месте с генералом Сорочинским, раздел его имения между наследниками, и чего ни нашел я в маленькой кладовой его, подле гостиной - и мотки ниток, и пуговицы, и гвозди разного размера, едва ли не подковы, и всякую мелочь, которую хранил он для хозяйственных потребностей и сам выдавал. Так-то наши старинные помещики составляли себе большие состояния. И этот дядюшка дал в приданое своей воспитаннице около ста тысяч наличными и оставил после себя своим племянникам 1200 незаложенных душ.
Возвратимся от дяди к племяннику, графу Александру Ивановичу.
Против суровостей русских непогод граф, казалось, закалил себя; нередко в одном мундире, в сильные морозы, делал смотр полкам. Это была железная натура и телом, и душою. В пище он был чрезвычайно умерен; за столом только изредка бокал шампанского. Изысканных блюд, особенно пирожных, не терпел. Любил крутую гречневую кашу до того, что, живя в Италии, выписывал по почте крупу из России.
Однажды во время объезда корпуса, после полкового смотра на сильном морозе, возвратясь к себе в квартиру и выпив только чашку чаю, он отправился снова в путь. Между тем обеденный стол был сервирован, мы слышали уже запах яств, которыми думал угостить нас на славу полковой командир Болховской, большой gourmand* и знаток кулинарного дела. Я с корпусным доктором, сопровождавшим вместе со мною графа, только полакомились обонянием этих кушаньев. Уж и досталось от нас вслед ему довольно проклятий! На первой невзрачной станции он спросил нас, хотим ли мы есть, и на утвердительный ответ велел подать гречневой каши. Обильно полив ее зеленым конопляным маслом, он усердно принялся ее уничтожать, я с голоду пропустил в желудок несколько ложек, доктор отказался. Зато мы решились отплатить ему по-своему. На дороге были страшные зажоры, снег, мокрыми хлопьями, слепил глаза, стемнело. Военные тогдашнего времени не знали, что такое шуба, а потому мы с пустым желудком продрогнули порядочно. Для исполнения задуманного нами мщения, велено нами ямщику понемногу отставать от передовых саней (всегда открытых, во всякую непогоду), в которых сидел граф с слугою и жандармом. Вскоре мы потеряли его из виду. В стороне, в полуверсте от большой дороги, блеснул огонь из большого господского дома. Повернуть к нему, войти, предъявить хозяину свои высокие титла адъютанта и доктора графа Остермана и попросить его укрыть нас под своим кровом по случаю наступающей волчьей ночи и худых дорог, было делом нескольких минут. Гостеприимный помещик, вероятно, богатый, судя по обстановке дома, был очень рад гостям, упавшим к нему с неба, и доказал это, как самый радушный амфитрион. Нас напоили благоуханным чаем, угостили отличным ужином и уложили спать в теплой комнате, на пуховиках, в которых мы утонули, посмеиваясь в ус всем эгоистам, любителям гречневой каши и путешествий во время зажор. Так, конечно, не нежился сам Сарданапал. Я забыл сказать, что хозяйские дочери, очень миловидные и хорошо воспитанные, усладили для нас вечер приятною музыкой и приятной беседой. Между тем граф, приехав в первый город (это было в Тульской губернии), где должен был делать смотр полку, беспокоясь о нас, разослал гонцов нас отыскивать и подать нам помощь в случае, если бы мы где-нибудь застряли. Разумеется, нас не нашли. Утром мы явились к нему и сыграли мастерски роль пострадавших мучеников. Он с сожалением слушал наш рассказ, как мы провозились всю ночь в глубокой зажоре, из которой будто вытащили нас крестьяне ближайшей к месту нашей гибели деревни, куда мы посылали ямщика. Нас велено поскорее обтереть вином и подать нам чаю с ромом.
______________
* Гурман (любитель поесть) (фр.).
Граф любил русскую литературу, по тогдашнему времени, державинскую, карамзинскую и озеровскую. Как-то ему в Петербурге расхвалили "Федру" Лобанова, которую Пушкин называл Федорой; меня заставили прочесть в присутствии графини отрывки, сначала из подлинника, а потом из перевода. "Отчего, - спросила меня графиня, - у Расина выходит все так гармонично, так хорошо, а по-русски так тяжело, грубо и скучно? Видно, русский язык неспособен передать красоты французской поэзии". - "Тут виноват не русский язык, который не беднее, если не богаче и гармоничней французского, отвечал я, - а недостаток таланта и дубоватость переводчика. Впрочем, наш язык сделался живым русским языком, и то литературным, со времен Карамзина, а в обществах он до сих пор остается мертвым".
В числе адъютантов графа был подполковник Свечин, автор знаменитой "Александроиды", которую он, для вящего вдохновения, писал на саженной аспидной доске, и которую в тогдашних московских обществах читали, как некогда "Телемахиду". Граф, когда хотел подремать, убаюкивался ее стихами, читаемыми ему самим автором.
С глубокою признательностью вспоминаю добрые, отеческие отношения ко мне графа. Когда я бывал нездоров, он посещал меня на моей квартире. Раз в Калуге, наскучив разводами на морозе, я сказался больным. Ко мне пришел товарищ, по-тогдашнему свитский офицер, по-нынешнему генерального штаба, Вельяминов-Зернов, прекрасно образовавшийся в школе Муравьева и много обещавший (убит в 1829 году в сражении против турок*). Мы прочли с ним несколько страниц из Парни{473}. Пришел другой товарищ; с этим мы стали перекидывать в банк. Целые колонны цифр были исписаны по зеленому столу, как говорится, на мелок. Вдруг в это самое время входит граф. Можно судить о моем смущении. Он ничего тут не сказал, только посмотрел на нас с неудовольствием и вышел. Но с того времени долго не давал мне покоя своими расспросами, не пристрастен ли я к картам, и, когда мы с ним находились вдвоем, убеждал меня, как добрый отец, не играть более. В душе этого сурового по наружности человека звучали нередко нежные струны. Живя, после смерти жены своей, в Пизе или Флоренции, он страстно полюбил красавицу италианку. Детей он также нежно любил... Боясь со временем, на старости лет, сделаться ревнивым, он пожертвовал ее спокойствию своею горячею к ней привязанностью и выдал ее с богатым приданым за молодого, красивого соотечественника ее. Детям он дал хорошее воспитание и обеспечил их будущность. Правда, для удовлетворения этих потребностей срезали вековые подмосковные леса, которые так берегли старики, графы Остерманы, не думая, чтоб они ушли в Италию.
______________
* Сестре его Анисье Федоровне Мерзляков{473} посвятил многие из своих стихотворений.
Не скрою, что граф Александр Иванович имел большие странности. Некоторые его эксцентричности, разглашаемые, как водится, с прибавлениями, доходили до Петербурга, где остряк Нарышкин умел передавать их в самом смешном виде. Он держал в своей лагерной палатке огромного белого орла и белого ворона и любил иметь у себя во дворе, когда жил в Калуге, медведей. Двум хирурги отрезали по сустав передние лапы, в которых заключается главная их сила. Им сделана была фантастическая одежда. Но разве Байрон в Венеции не имел около себя целого зверинца с обезьянами, кошками, собаками, лисицей, ястребами и коршунами? Правда, Байрон не делал хирургических операций своим четвероногим любимцам*. Граф, живя в Италии, выписал туда из своей подмосковной, чтобы ходить за детьми, кривого бурмистра Егора, имевшего медаль за победу в 12 году над французскими мародерами. Русский мужичок и тут нашелся. Выдержав успешно двухгодовалый искус в Авзонии, он возвратился на родину с богатым награждением и зарылся опять в свой овчинный тулуп. Вероятно, эти эксцентричности дали повод Давыдову приписать их сумасшествию. Надо, однако ж, пояснить, что они появились гораздо после наполеоновских войн, да и то сказать, если копнуть поглубже в домашнюю жизнь иного знаменитого человека, то и не такие проделки в ней найдутся... По крайней мере в эксцентричности графа не было ничего грязного, бесчестного...