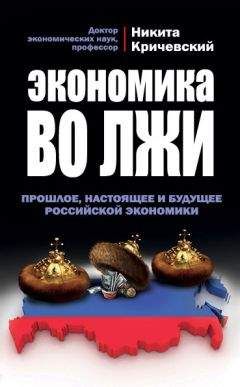Ян Левченко - Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии
«Расшевеливание» затвердевшей формы наследует, с одной стороны, идее фактуры у футуристов[44], а с другой – восходит к этнопсихологии Вильгельма Вундта, у которого Шкловский и Евгений Поливанов позаимствовали понятие «звукового жеста» [Ханзен-Леве, 2001, с. 103]. Поэзия – инвариант трудной для восприятия речи, самый рельефный пример деавтоматизации языка. Сравнивая поэзию с различными формами ритмичного повторения звуков, Лев Якубинский дает отсылку к наблюдениям Уильяма Джеймса, согласно которым мерный повтор одного и того же слова дает эффект «обнаженной ощутимости» его фонетической стороны [Эрлих, 1996, с. 317].
В работах о сюжете Шкловский проецирует ритмичное реверсивное движение от нормы к нарушению в диахронию и трактует с его помощью смену форм («Розанов», 1921). Одновременно эти идеи подробно разрабатываются в трудах Тынянова. Сначала как трактовка комедии в качестве пародии на трагедию и vice versa («Достоевский и Гоголь», 1923), затем в виде модели литературной эволюции (качание структур в диахронии, созвучное построениям Генриха Вельфлина)[45]. Движение у Тынянова приобретает системный характер, обозначая одновременную соотнесенность эволюционирующего факта с различными рядами значений, которые тоже непрерывно эволюционируют [Тынянов, 1977, с. 272]. Наконец, в трудах Эйхенбаума, хорошо знакомого с идеями венской школы [Там же, с. 527] и живо полемизирующего с ними [Дмитриева, 2009, с. 104–105], динамика истории составляет важнейшую онтологическую категорию метаязыка (критические биографии Толстого, Лермонтова 1922 и 1924 г.), в значительной степени определяя направление исторической самоидентификации и методологических поисков самого Эйхенбаума. Дискретность впечатлений соответствует континуальному характеру реальности, которую они выражают, тогда как беспрестанная смена влияний в литературе отлагается в истории, в тексте, специализирующем время. История репродуцирует и структурирует время, придает ему событийную конкретность: в обоих случаях работает механизм памяти, фиксирующий и возвращающий впечатления.
Представление о движении обнаруживает связь формализма с витализмом. Это идеалистическое течение, имеющее платонические корни, объясняло феномен жизни в терминах «энергии» (ср. схожую терминологию Вильгельма фон Гумбольда в лингвистике). Биологическая ветвь витализма (Ханс Дриш, Эдуард фон Хартманн) была направлена против дарвинизма в теоретической биологии, а философская (Георг Зиммель, Анри Бергсон) – против позитивизма[46]. Корреляциям между идеями формальной школы и философией жизни посвящена отдельная работа [Curtis, 1976], регулярно можно встретить соответствующие упоминания и в основных «историях» направления, в сравнительно недавнем обстоятельном исследовании [Светликова, 2005] витализм упоминается в связи с психологическими ассоциациями формалистской теории, восходящей в итоге к научной психологии Иоганна Фридриха Гербарта (именно его понятийная система вдохновила «темный» язык Тынянова в его новаторских работах о стихе).
3. Бергсон и Шкловский
Бергсон напрямую повлиял на теорию автоматизации и идею восстановления непосредственности [Curtis, 1976, р. 109–121; Pomorska, 1968, р. 56; Ханзен-Леве, 2001, с. 213; Ямпольский, 1988, с. 109]. В частности, в книге «Литература и кинематограф» Шкловский размышляет о прерывности и непрерывности в механизме восприятия и ссылается на проделанный Бергсоном анализ парадоксов Зенона. В трактате Бергсона «Творческая эволюция» (1907) несовместимость делимого и неделимого движения является основным пунктом опровержения парадоксов стрелы (неподвижность в полете) и Ахилла (невозможность догнать черепаху). Рассуждая о возможности зафиксировать динамику жизни, Бергсон приводит аналогию с кино, что позволяет подойти к природе перцепции. Описывая механизмы восприятия и познания, философ обращается к эвристической модели кинематографа: «Вместо того чтобы рассматривать внутренний процесс вещей, мы помещаемся вне их и искусственно составляем этот процесс. <…> Когда дело идет о том, чтобы мыслить процессы становления или выражать их в словах, или хотя бы воспринимать их, мы просто заставляем действовать известного рода внутренний кинематограф» [Бергсон, 1999 (b), с. 339].
Шкловский некритически принимает и абсолютизирует технологическую природу кинематографа. По его мнению, последний иллюстрирует парадокс Зенона именно потому, что «не движется, а как бы движется. Чистое движение, движение как таковое никогда не будет воспроизведено кинематографом. Кинематограф может иметь дело только с движением-знаком, движением смысловым. Не просто движение, а движение-поступок – вот сфера кино» [Шкловский, 1923 (b), с. 25]. В 1919 г., когда Шкловский писал эти строки для газеты «Искусство коммуны», природа кинематографа была воспринята им негативно, так как вступила в противоречие с его жизнетворческим пониманием искусства. Для описания представлений Шкловского удобно прибегнуть к анахронизму, констатировав, что искусство было для него не вторичной, но первичной моделирующей системой. Искусство освобождает мышление, являющееся, по сути, моделью искусства. «Человеческое движение – величина непрерывная, человеческое мышление представляет собой непрерывность в виде ряда толчков, ряда отрезков бесконечно малых, малых до непрерывности. Мир искусства, мир непрерывности, мир непрерывного слова, стих не может быть разбит на ударения, он не имеет ударяемых точек, он имеет место переломов силовых линий. Традиционная теория стиха, насилие прерывности над непрерывностью. Мир непрерывный – мир видения. Мир прерывный – мир узнавания» [Шкловский, 1923 (b), с. 24][47]. Формалистская феноменология полагает дифференциальными признаками искусства динамику и непрерывность. При этом искусство отождествляется с механизмом мышления; и то, и другое понимается исключительно как реализация принципа остранения и обновления. Как отмечается в позднейшем исследовании, «в такой перспективе смысловое кинодвижение, основываясь не на видении, а на узнавании, превращает кино в знаковую систему, но одновременно выводит кинематограф за пределы искусства» [Ямпольский, 1988, с. 110]. Знак имеет чисто орудийный, практический смысл, будучи дискретной единицей коммуникации в континуальном мире.
Джей Кертис констатирует, что работы «Искусство как прием» и «Тристрам Шенди Стерна и теория романа» обнаруживают прямые переклички с Бергсоном[48]. Центральное для раннего формализма понятие остранения понимается здесь как универсальная для искусства процедура затруднения и задержки привычного восприятия. Выводя эффект образа из эффекта остранения, Шкловский «истолковывает в качестве фундаментального принципа – фактически, определения – искусства представление Бергсона о том, что комедия борется с негибкостью восприятия в социальной повседневности» [Curtis, 1976, р. 115]. В эстетическом трактате «Смех» (1900) Бергсон формулирует концепцию, позднее повторенную формалистами. «Мы не видим самих предметов; чаще всего мы ограничиваемся тем, что читаем приклеенные к ним ярлыки» [Бергсон, 1999 (б), с. 1376]. Художники же призваны «устранять практически полезные символы, общепринятые, условные общие положения, одним словом, все, что скрывает от нас действительность, чтобы поставить нас с действительностью лицом к лицу». Понятие автоматизации, съедающей «вещи, платье, мебель, жену и страх войны», а также оппозиция «автоматизирующей» прозы и «заторможенного» стиха [Шкловский, 1929, с. 13, 23, 22] образуют целый пласт Бергсона в концепции Шкловского. Имеет соответствующий след и противопоставление видения и узнавания, являющееся фундаментом теории остранения.
В оксфордских лекциях 1911 г. («Восприятие изменчивости») Бергсон продолжает размышления о художнике, начатые в «Смехе»: «Почему, будучи более оторван от действительности, он умеет видеть в ней более вещей, чем обыкновенный человек? Этого нельзя было бы понять, если бы то видение, которое мы обычно имеем о внешних предметах и о нас самих, не было бы видением суженным и опустошенным: к этому нас приводит наша привязанность к действительности, наша потребность жить и действовать» [Бергсон, 1999 (d), с. 934]. Различение практического и художнического видения любопытным образом соотносятся с двумя видами узнавания, которые выделяются в более раннем трактате «Материя и память» (1896). Бергсон анализирует здесь природу узнавания (идентификации с прошлым) и приходит к выводу, что работу сознания нельзя ограничить только этой операцией. Человек постоянно пересекает воображаемый порог автоматизма, в темпоральном измерении равный превращению будущего в прошлое. Зафиксированный в памяти образ прошлого постоянно меняется под воздействием «актуальных движений», которые совершает индивид в настоящем. В терминах Бергсона «разыгрываемое» состояние памяти в настоящем является инновацией по отношению к «мечтаемому» содержанию памяти, т. е. совокупности имеющихся у индивида представлений [Бергсон, 1999 (а), с. 582]. То, что предшествует порогу автоматизма, трактуется Бергсоном как данные памяти, а то, что находится за ним, – как результат действия воли, осознание которой и входит в задачу рефлексии. Будучи осознанным, всякое движение воли есть творчество, о чем Бергсон размышляет в «Творческой эволюции» (1907). Сознание, являющееся «пружиной», стимулом развития интеллекта, «представляет потребность в творчестве, но оно проявляется только там, где творчество возможно. Оно засыпает, когда жизнь обречена на автоматизм, но оно немедленно просыпается, когда является возможность выбора» [Бергсон, 1999 (с), с. 288]. То есть человек как субъект творчества, способный к осознанию последнего, постоянно творит свое будущее, в чем ему и помогает искусство – способ иного, непрактического видения. Бергсон считает понятие творчества релевантным не только для художественной, но и для психологической реальности, в результате чего возникает своеобразный креативный универсум, обитатель которого занят постоянным поиском решений. Но попытка зафиксировать порог автоматизации в «практической» жизни обречена на провал; здесь важен сам процесс, а не его фиксация.