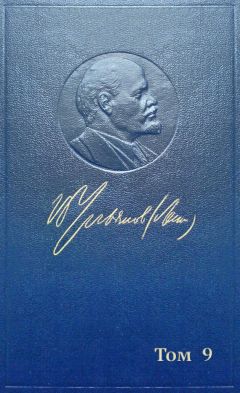Олег Мороз - Хронико либеральной революции
Разговор с Гайдаром
Приступая к экономической реформе, Гайдар и его коллеги, конечно, предвидели, что на них обрушится ураганный огонь со стороны противников этой реформы. Но одно дело предвидеть, а другое – испытать все это на собственной шкуре в реальности. Сопротивление ведь не ограничивалось критикой тех или иных действий реформаторов – их старались оскорбить, уязвить, унизить, вывести из себя (это и до сих пор продолжается). Напомню: Руцкой назвал членов кабинета “учеными мальчиками в розовых штанишках”, Хасбулатов, как уже говорилось, – абсолютно некомпетентным и совершенно недееспособным правительством. Уже в январе – феврале на митингах можно было видеть плакаты: “Народ объегорен, народ обгайдарен”.
Где-то в середине февраля, беседуя с Егором Гайдаром (разговор происходил в бывшем здании ЦК на Старой площади, куда в ноябре – декабре переехало правительство, освободив Белый дом для Верховного Совета), я спросил его, стала ли для него неожиданностью такая “базарная” форма критики, задевает ли она его, способен ли он ее выдержать, вообще чувствует ли он в себе достаточно силы и твердости, чтобы не отступить перед этим оголтелым сопротивлением.
– Ощущения твердости у меня вполне достаточно, – ответил Гайдар. – Задевает ли все это меня? Может быть, когда я закончу свои дела на посту вице-премьера и оглянусь на то, что обо мне писали и говорили, мне это будет больно и неприятно. А сейчас груз огромной ответственности, очень жесткие рамки, определяемые текущей работой, не позволяют все это замечать, придавать этому особенное значение. Сейчас я слишком хорошо понимаю масштабы игры, слишком хорошо понимаю, что дело не в личностях, а в интересах, поэтому вся “критика” проходит мимо сознания, по периферии его.
Главный же политический вывод первых полутора месяцев реформы, который сделал для себя Гайдар: наше общество оказалось намного умнее, в нем гораздо больше здравого смысла и понимания, чем это обычно многие себе представляли.
Наверное, это было слишком лестное для общества мнение. Во-первых, что понимать под обществом? Часть его действительно проявила здравомыслие, осознав, что другого пути в будущее нет. Другая же часть сразу подняла панику по поводу возросших цен, “пропавших” денег, которые лежали на сберкнижке… Да и вообще, как показали минувшие годы, обществу предстояло пройти тяжелейшие испытания. Мало кто в состоянии был разобраться в их причинах, а потому все проклятия по привычке обрушивались, повторяю, на голову Гайдара: он, дескать, все затеял. Никто не хотел вспоминать, каким было положение в стране, когда Гайдар стал вице-премьером и о котором уже было сказано выше, – пустые прилавки магазинов, ничего не стоящий рубль, полностью парализованная экономика… Это какая-то особенность человеческой памяти. Она избирательна. Возможно, у наших соотечественников она особенно коротка и прихотлива.
Еще вопрос, который я задал тогда Егору Тимуровичу, – чья поддержка для него особенно ценна, ощущает ли он поддержку Ельцина, нет ли у него предчувствия, что в один прекрасный день президент лишит его такой поддержки, причем не из принципиальных, а из чисто политических, тактических соображений? Ответ Гайдара:
– Пока что самой ценной для нас, лично для меня является именно поддержка президента. Без его поддержки мы просто не могли бы ничего сделать – это надо четко себе представлять. И я не понимаю, почему мы должны думать о людях плохо. Президент показал способность принимать политически очень рискованные решения, брать за них ответственность на себя лично, а не сваливать ее немедленно на своих подчиненных. Я не понимаю, почему мы должны исходить из гипотезы непорядочного поведения президента.
Я возразил, что дело не в порядочности или непорядочности. Шахматист жертвует фигуру, видя, что ее трудно защищать, что она становится в тягость, ухудшает общую позицию. Так оно и произошло потом с Гайдаром. Минуло всего лишь десять месяцев, как Ельцин уступил нажиму депутатов, фактически предоставил им, своим противникам, право выбрать главу правительства (к тому времени Гайдар уже был и.о. премьера). Вместо “ученого мальчика в розовых штанишках” нардепы выбрали “крепкого хозяйственника” Черномырдина.
Была ли эта “жертва ферзя” гроссмейстерским ходом? Думаю, нет. Хотя она и не привела к немедленному проигрышу, но сильно понизила шансы реформаторов. И растянула во времени страдания тех, чья жизнь зависела от успешного проведения реформ. А зависела от этого вся страна.
Уже тогда, к моменту нашей беседы с Гайдаром, стало ясно, что главная фигура в стане контрреформаторов – Хасбулатов. Я поинтересовался, каково мнение Гайдара об этом деятеле как об экономисте. Гайдар ответил уклончиво-дипломатично:
– Я предпочел бы уйти от этого вопроса. Потому что если я скажу, что я оцениваю его высоко, подумают, что я пытаюсь подхалимствовать перед Верховным Советом. Если я скажу, что оцениваю низко, – это будет оскорбительно и неуважительно по отношению к главе высшей законодательной власти. Могу лишь сказать, что статьи Хасбулатова в начале перестройки, без всякого сомнения, были прогрессивными и шли в русле намечавшихся реформ.
Позже, когда Гайдар уже не был в правительстве и над ним не довлела необходимость прибегать к дипломатии, он несколько по-иному отзывался о достоинствах Хасбулатова-экономиста. В частности, рассказывал, как, работая в журнале “Коммунист”, отклонял статьи будущего спикера ввиду их банальности.
Наконец, еще один вопрос, который мы тогда обсуждали с Гайдаром, – устоит ли демократическая власть. Уже тогда было видно, что коммуно-патриоты ведут целенаправленную подготовку насильственного свержения тогдашнего российского руководства. Призывы к такому свержению открыто раздавались в печати, на митингах (например, на состоявшемся 9 февраля, незадолго перед нашей беседой, митинге на Манежной площади). Между тем создавалось впечатление, что правительство органически неспособно предпринять хотя бы что-то для предотвращения этой угрозы, защитить себя и Россию, что у него нет элементарного инстинкта самосохранения.
Гайдар возразил, что, по его мнению, правительство способно предотвратить подобные угрозы. Конечно, на нем лежит груз либеральной мягкотелости. Это вполне понятно в нашей стране, с нашей историей, с нашими традициями. Но все-таки, как считал тогда мой собеседник, опыт нас чему-то учит, в том числе и тому, что прекраснодушное либеральничанье в такой острый, критический момент неуместно.
Последующие без малого два года показали, что все-таки демократическая власть вела себя недопустимо беспечно перед угрозами своих врагов. И то, что она не пала, можно считать чудом. Назвать ли это традиционной российской либеральной мягкотелостью? Не уверен. Откуда в России традиции либерализма, хотя бы и в форме либеральной мягкотелости? Возможно, под прекраснодушным либеральничаньем Гайдар подразумевал хрестоматийное либеральничанье Временного правительства в момент хорошо просматривавшейся угрозы большевистского заговора и переворота в 1917 году. Но это в нашей истории скорее исключение, чем традиция. Традиции у нас совсем другие – традиции железной руки, “сильной” руки. Скорее всего, Ельцин не хотел ее проявлять, дабы не быть обвиненным в удушении демократии. А может быть, просто положился на авось. Это тоже наша традиция.
Ярче всего беспечность власти проявилась в сентябре – октябре 1993 года. Именно в тот момент из-за этой самой беспечности она едва не пала, пройдя по самому краю пропасти, называемой коммунистическим реваншем.
КОНСТИТУЦИОННАЯ ЛОВУШКА
Промедление смерти подобно
Главной ошибкой Ельцина – и стратегической, и тактической – многие считают то, что он не добился окончательного запрета компартии во всех ее вариантах – КПСС, КПРФ, РКРП и т.д. В результате вместо того, чтобы сконцентрировать свои силы на реформах, на спокойном и последовательном их проведении, он почти весь свой президентский срок, вплоть до ухода в конце 1999-го, вынужден был отбиваться от наскоков верных последователей Маркса – Энгельса, Ленина – Сталина, идти на компромиссы, на уступки, подчас принципиальные, искажающие суть реформ. По крайней мере дважды – не только в 1993-м, но и в 1996-м, – дело доходило до того, что он чуть было вообще не уступил коммунистам власть, не поднял шлагбаум для полного отката назад.
Однако не меньшей ошибкой – на начальном этапе реформ – было, пожалуй, и то, что Ельцин промедлил с принятием новой конституции России. В принципе, он должен был бы вплотную заняться этим сразу же после 12 июня 1991 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России, а сам он избран ее президентом. У него было по крайней мере шесть – семь месяцев, чтобы в относительно спокойной (если исключить несколько дней августовского путча) обстановке, когда еще не возникла жесткая конфронтация между ним и депутатами – противниками начавшихся реформ – подготовить и принять Основной закон, где были бы четко прописаны полномочия каждой из ветвей власти и механизм взаимодействия между ними. Главное же – где не давалось бы полное законодательное преимущество Съезду и Верховному Совету. Увы, этого сделано не было.