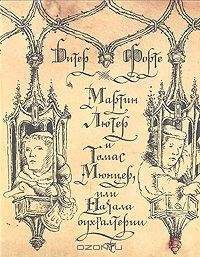Эрих Соловьев - Непобежденный еретик. Мартин Лютер и его время
Самым заметным из «поздних схоластов» был Уильям Оккам (ок. 1285–1349). Англичанин по происхождению, он долгое время прожил в Германии. Именно здесь его взгляды раньше всего получили признание, обрели расхожую форму и превратились в своего рода «академическую идеологию».
Оккам отстаивал неограниченные возможности разума в познании земных явлений и вместе с тем решительнее, чем кто-либо до него, утверждал рациональную непостижимость бога. Последнее не означало, будто Оккам ставил средневекового человека перед тайной, на край философской бездны. Он говорил, что бог сам раскрывает себя через Писание, право толкования которого принадлежит католической церкви.
Эти идеи Оккама получили самое широкое признание в немецкой (в частности, эрфуртской) предреформационной схоластике. Она возвела над ними причудливое, эклектическое, но удивительно хитроумное сооружение.
Эпигонский эрфуртский оккамизм позволял быть терпимым к деловой инициативе мирянина, к нарождающейся практически полезной науке и вместе с тем сохранять церковно-догматический контроль над любыми нравственно-религиозными и шире — мировоззренческими исканиями. Тот, кто домогался новых полезных познаний, мог исследовать и ставить опыты; но тот, кто был встревожен, потрясен, задумывался над смыслом бытия, над устройством мироздания, над «последними принципами», должен был смиренно молиться, а еще лучше — идти в монастырь. Деловая инициатива одобрялась, но только если в ней не было никакого подвижнического пафоса. Наука признавалась, но у нее отнимались люди, способные совершать научные революции. Вера превозносилась, но при условии послушания и полного согласия с догматами.
Хитроумные раздвоения пронизывали эрфуртский университетский оккамизм буквально снизу доверху. Он многое разрешал, но тут же обезвреживал с помощью крепких догматических оговорок.
Оккамисты смело приписывали человеку свободу воли, однако тут же разъясняли, что она относится лишь к выбору средств: цели нашего существования раз и навсегда определены богом через церковь. Оккамисты заверяли, что на небесах награждают строго по заслугам, и вместе с тем оставляли лазейку для надежды на неизъяснимое милосердие. Они не отвергали возрожденческое представление о беспредельном практическом могуществе людей, но требовали признать, что оно достигается лишь посредством воздействия на бога, методы которого (магические и аскетические) опять-таки определены церковью.
Эрфуртские оккамисты вовсе не были обскурантами. Студент Лютер узнал от своих университетских учителей, что Земля не плоская, а круглая и что Луна производит приливы и отливы. Хотя Земля есть центр универсума, она в сравнении со вселенной ничтожно мала, а все, что мы видим на ней, подвержено изменению и гибели. Существование Земли — такой же мучительный парадокс, как и существование человека.
Лютер слышал далее, что бедствия людей если не всегда, то в большинстве случаев проистекают из естественных причин, что алхимия и астрология весьма сомнительные дисциплины. И если позже Лютер так решительно выступал против разного рода псевдонаук, то в этом нельзя не увидеть отблеска критического настроения, которое заронил в него эрфуртский профессор Трутветтер на своих лекциях по натурфилософии.
Вместе с тем несомненно, что рационалистический критицизм университетских наставников носил поверхностный и робкий характер. В их лице перед Лютером предстала средневековая схоластика, но только состарившаяся и от старости хитрая, урвавшая кое-что от здравого смысла, от скептицизма, от влиятельных в народе мистических учений.
У Мартина, который был исключительно чуток ко всякой неискренности и уловке, эрфуртский оккамизм не мог вызвать одушевления.
Не удовлетворяла его и другая разновидность философии, известная эрфуртским студентам. Мы имеем в виду укоренявшийся в городе гуманизм.
В начале XVI века образованное бюргерство многих немецких городов знакомится с сочинениями Рудольфа Агриколы, Конрада Цельтиса, Эразма Роттердамского и заражается мыслью о соединении христианского благочестия с античной (прежде всего стоической) мудростью. Эрфурт не составлял в этом смысле исключения. Интерес к гуманизму возник здесь уже в последней трети XV века, но особенно сильным стал как раз в пору студенчества Лютера, когда в соседней Готе начал публиковать свои сочинения тамошний каноник Муциан Руф (Конрад Мут). В Эрфуртском университете образовался ученый кружок гуманистов, находившихся в переписке с Муцианом. К нему принадлежали Генрих Урбан, Георг Спалатин (Буркхардт), Крот Рубеан (Иоганн Йегер), Эобанн Гесс (Кох) и Ульрих фон Гуттен.
Вопрос об отношении Мартина к эрфуртским гуманистам — предмет многих споров и дискуссий. Реформатора изображали и как забытого участника Муцианова кружка, и как человека, который, по крайней мере, до 1519 года вообще не имел представления об идеях немецкого гуманизма. Обе эти версии ошибочны. Лютер не входил в окружение Муциана (в одном из писем, относящихся к 1516 году, тот сам засвидетельствовал, что никакого Лютера он в Эрфурте не знал). Достоверно известно, однако, что по меньшей мере один из активнейших членов кружка, а именно Крот Рубеан, был в студенчестве другом Мартина. Идеи гуманистов не могли не обсуждаться в их беседах. По-видимому, именно влиянию Крота Лютер обязан своим ранним знакомством с сочинениями римских поэтов и моралистов. В 1503–1504 годах он читает Овидия, Вергилия, Плавта, возможно, также Горация и Ювенала. Более основательное ознакомление Лютера с трудами гуманистов состоялось, по-видимому, во время его второго посещения Эрфурта в бурном 1509 году. Что именно он читал тогда, мы не знаем; но несомненно, что многие из его позднейших — и как раз наиболее смелых — антиклерикальных идей почерпнуты из гуманистической литературы.
Студент Мартин еще не был готов к восприятию этих идей. Остроумные сатиры на попов и монахов — иногда прямые, иногда иносказательные — скорее всего шокировали юношу. Как и его мансфельдская родня, он с наивным почтением принимал господствующую религию. Судьба как бы берегла смятенного горняцкого сына для иного разрыва с церковью — сугубо серьезного, мучительного и горького.
В феврале 1505 года Мартин стал магистром «свободных искусств». Он был отмечен как второй по достоинству из семнадцати экзаменовавшихся кандидатов. Позднее реформатор живо вспоминал праздничность, с какой было обставлено это событие: «Как это было величественно и прекрасно — рождение новых магистров: им светили факелы и оказывались почести. Я полагал, что ни одна временная, мирская радость не могла бы сравниться с этой».
Но еще большее ликование царило в мансфельдском доме Людеров. С лица матери не сходила улыбка; сестры только и говорили, что о встрече с любимым братом, который скоро приедет к ним в коричневом магистерском берете. Ганс Людер решил, что отныне будет обращаться к сыну только на «вы».
Как никогда ясно он прозревал теперь и будущий путь Мартина: молодой магистр должен поступить на юридический факультет и сделаться доктором права. Это позволит ему со временем стать бургомистром, а может быть (такие случаи бывали), удостоиться и дворянского титула. Ганс извещает сына о своем новом твердом решении и дарит ему экземпляр юстиниановского «Кодекса гражданского права». Он пишет также, что подыскивает для сына достойную невесту.
* * *С началом нового семестра Лютер с обычным для него упорством принимается за учебу. Он штудирует подаренный отцом Юстинианов кодекс и глоссы (краткие комментарии) Аккурсиуса, с которых начиналась подготовка средневекового студента-юриста.
В середине полугодия Мартин неожиданно получает освобождение от занятий и едет в Мансфельд. Происходит трудный разговор с отцом, темой которого скорее всего было отношение к новым юридическим занятиям. Они не давались Мартину и отравляли ему жизнь. Это был серьезный симптом внутреннего кризиса.
На наш взгляд, столкновение с позднесредневековой юридической литературой может быть определено как ключевое событие в жизни молодого Лютера. Аккурсиус и другие «ученые законники» толковали о политически важных вопросах (о духовной и светской власти, о повиновении господам, о их полномочиях). Вопросы эти получали тенденциозное, схоластически запутанное освещение. Мартина угнетала юридическая схоластика, и вместе с тем его совесть была растревожена: сын мансфельдского горняка не мог не задумываться о феодальном угнетении, которое оправдывалось в университетских курсах «канонического» (церковного) и «цивильного» (гражданского) права.
Если в жизни Лютера и была серьезная душевная травма, то не младенческая, а юношеская — пережитая на студенческой скамье. Трактаты юристов сделали его больным, излечение же пришло лишь семь лет спустя, в ходе самостоятельного творческого толкования другой книги — Библии. Летом 1505 года Лютер еще не мог справиться с «проблемным вызовом римского права» и, убегая от него, дошел до идеи полного разрыва с миром.