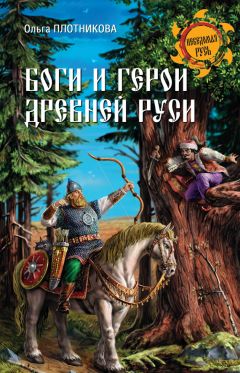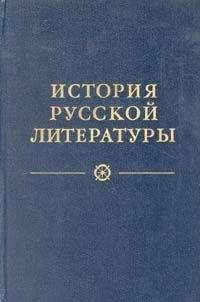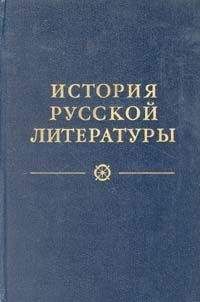Алексей Дельнов - Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна
Однажды дело дошло до большого кровопролития – во время следующего похода Хабарова, когда якутский воевода обеспечил его большей воинской силой. Даурский князь Гугудар отказался сдать свой городок (с тройным рядом стен), горделиво заявив при этом: «Даем мы ясак богдойскому царю, а вам какой ясак у нас? Хотите ясака, что мы бросаем последним своим ребятам?» (передано, разумеется, в изложении русской стороны). Но в последовавшем сражении пушечному и пищальному огню храбрые туземцы смогли противопоставить только луки и стрелы (как на картине Сурикова). Около шестисот из них полегло в битве. Русские потеряли четверых убитыми и сорок пять человек раненными.
Общее же впечатление от этих первых походов, доведенное до сведения московского правительства, было следующим: «По славной великой реке Амуру живут даурские люди, пахотные и скотные, и в той реке всякой рыбы много против Волги, по берегам луга великие и пашни, леса темные большие, соболя и всякого зверя много, государю казна будет великая… Даурская земля будет прибыльнее Лены, да и против всей Сибири будет место украшено и изобильно».
Для зимовья и как опорный пункт Хабаров поставил Ачанский городок. Но в 1652 г. произошла знаменательная историческая встреча: под его стенами появилось вооруженное пушками и мушкетами войско, посланное цинским наместником – для того, чтобы изгнать пришельцев (к тому времени, как мы помним, север Поднебесной уже был под властью маньчжуров). Из донесения Хабарова: «Марта в 24 день, на утренней заре, с верх Амура реки славная ударила сила на город Ачанский, на нас козаков, сила богдойская, все люди конные и панцирные… ажно бьет из оружия и из пушек по нашему городу казачью войско богдойское. И мы козаки с ними, богдойскими людьми, войском их, дрались из-за стены с зари и до схода солнца… а богдойские люди знаменами стену городскую укрывали».
Когда толмачи перевели Хабарову и другим воинам громогласный призыв маньчжурского военачальника к своим солдатам брать русских живьем – те, «служилые люди и вольные козаки» изготовившись к новой схватке и, сотворив молитвы, «промеж собою прощались и говорили: «Умрем мы, братцы козаки, за веру крещеную, и постоим за дом Спаса и Пречистые и Николы Чудотворца, и порадеем мы козаки государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, и помрем мы козаки все за один человек против государевы недруга, а живы мы козаки в руки им, богдойским людям, не дадимся».
На таком душевном подъеме русские ратники открыли ожесточенный огонь из большой медной пушки, «из иных пушек железных» и из прочего оружия и сами пошли в атаку через сделанный неприятелем пролом в стене. «И нападе на них, богдоев, страх великий, покажись им сила наша несчетная, и все богдоевы люди от нашего бою побежали врознь. И круг того Ачанского города смекали мы, что побито? Богдоевых людей и силы их шестьсот семьдесят шесть человек наповал, а нашей силы козачьей легло от богдоев десять человек, да переранили нас козаков на той драке семьдесят восемь человек».
Но если Хабаров и его соратники не щадили живота своего за веру, царя и отечество, то действовавшие по своей инициативе отряды вольных казаков зачастую попросту разбойничали и творили немало зла туземцам. Среди них были и отколовшиеся от отряда Хабарова. Он доносил: «воры государевой службе поруху учинили, иноверцев отогнали и землю смяли», а с оставшимися у него людьми «землею овладеть нельзя, потому что земля многолюдная и бой огненный».
После описанного первого сражения борьба шла с переменным успехом. В 1655 г. Онуфрий Степанов, сменивший отбывшего в Москву Хабарова, отразил нападение «десяти тысяч богдойского войска», оснащенного «всякими приступными мудростями», на острожек в устье реки Комары, впадающей в Амур. Осаждавшие пускали на стрелах зажигательные заряды, штурмовали крепостцу со всех четырех сторон, укрываясь за установленными на телегах обитыми кожей деревянными щитами и пытаясь взобраться на стены по специальным, передвигаемым на колесах и оснащенным баграми лестницам. Но штурм был отбит, и китайцы, постреляв несколько дней для очистки совести из пушек, ушли, оставив все свои «приступные мудрости».
Фарфоровое блюдо с драконами и фениксами (XVIII в.)
Однако в 1658 г. Степанов со своим отрядом попал в устроенную маньчжурским войском засаду. Русские плыли на стругах по Амуру, многочисленный неприятель неожиданно атаковал их от берегов на укрытых в засаде больших судах. Командир и двести семьдесят его казаков погибли, спастись удалось менее чем половине отряда. Собранный ясак и войсковая казна достались победителям. «Богдойского царя люди» долго радовались этому успеху.
Но ставились новые остроги, важнейшими из которых были Нерчинск при впадении реки Нерчи в Шилку и Албазин на Амуре. В 1667 г. произошел вроде бы незначительный, но показательный для тогдашних российско-китайских отношений эпизод. Тунгусский «князек» Гантемир, проиграв тяжбу в китайском суде, с досады (или из страха перед карой) со всеми своими людьми – всего человек сорок, перешел на русскую сторону, обязавшись платить установленный ясак – по три соболя с мужчины. Китайский наместник отправил по этому поводу ноту нерчинскому воеводе Аршинскому: «Вы бы послали к нам послов своих, чтобы нам переговорить с очей на очи: из-за того, чтобы с мужика брать по соболю или по два, нам с великим государем ссориться незачем. Но вы подумайте: кто платит великому государю ясак и сбежит, то разве вы не ищете его по десяти, по двадцати и по сто лет?»
Действительно, взаимные претензии по поводу каждой из таких «перебежек» предъявлялись на самом высоком уровне многие десятки лет. Для русских, например, весьма ощутимо было переселение на китайскую сторону даурцев и других земледельческих народностей, снабжавших их хлебом.
Впервые была проявлена дипломатическая инициатива. В марте 1656 г., после долгого тяжелого пути через калмыцкие и монгольские степи, до Пекина добрался посланный из Тобольска во главе небольшого посольства сын боярский Федор Байков. Похоже, существенного успеха от его миссии не ждали, отправляли больше «для присматривания в торгах и товарах и в прочих тамошних поведениях». Китайцы, действительно, большого радушия не выказали: по их земле посольство передвигалось на своих лошадях и верблюдах. Байков сообщает: «На этой дороге видел восемнадцать городов, города кирпичные, а иные глиняные, через реки поделаны мосты из дикого камня очень затейливо». При въезде в столицу его встретили «двое ближних царских людей» (чиновников из ведомства ритуалов?) и стали потчевать чаем. Но напиток был приготовлен на тибетско-монгольский манер: сварен с молоком и маслом, а поскольку было время Великого Поста, посол от угощения отказался, только подержал для вежливости чашку в руках – да и то по настоянию китайцев.
Дальше возникло препятствие – постоянное и при всех последующих общениях с пекинским двором. Русский посол, как представитель своего государя, намеревался лично, из рук в руки вручить царскую грамоту и подарки императору (тогда это был первый маньчжурский Сын Неба Шуньчжи). Но ему довольно резко заметили, что в Поднебесной свои порядки – после чего подарки отобрали силой, а грамоту велели привезти наутро в дворцовое ведомство для предварительного просмотра. Байков категорически отказался: «Прислан я к царю Богде а не к приказным ближним людям». Ему пригрозили, что император может разгневаться и приказать казнить строптивца, но тот был тверд: «Хотя бы царь (в смысле Богда – А.Д.) велел по составам меня разнять, а все же в приказ не пойду и государевой грамоты вам не отдам». Сын Неба ограничил выражение своего недовольства тем, что приказал вернуть подарки – и боярский сын незамедлительно пустился в обратный путь. Провал посольства в какой-то степени компенсировался впечатлениями от увиденного в совершенно незнакомой доселе стране.
В начале 1675 г. в Китай отправился более подготовленный человек – переводчик посольского приказа Николай Гаврилович Спафарийй, грек по происхождению. В Пекин он прибыл в мае 1676 г. Поднебесной правил тогда уже нам знакомый великий император Канси.
Спафарий тоже сразу поставили в известность, что лично в руки императору он царскую грамоту передать не сможет. В ответ на недоуменный вопрос последовало объяснение, что однажды произошел такой прецедент. Иноземного посла приняли с почетом, как путного: он привез множество даров и говорил весьма дружелюбные слова. Но когда на аудиенции стали зачитывать врученную Сыну Неба грамоту, в ней оказалось «большое бесчестье» для императорского величества, а сам дипломат «принялся говорить непристойные речи». Не нам судить, что это было за «большое бесчестье» и что за «непристойные речи» – скорее всего, по современным понятиям, сущие пустяки, лишь повод для формальных придирок. Но с тех пор в Поднебесной повелось, что с посланием предварительно должны были ознакомиться высокопоставленные чиновники. Спафарий, как за двадцать лет до того Байков, от такой процедуры категорически отказался.