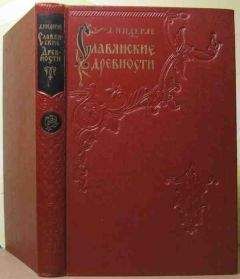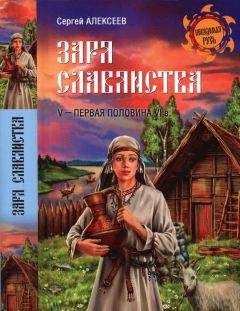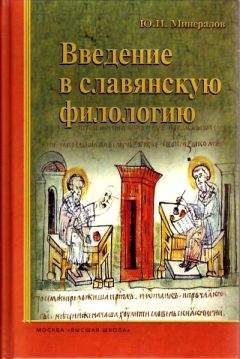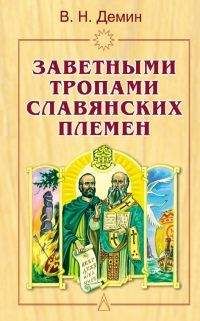Сергей Алексеев - Славянская Европа V–VIII веков
Другой важной особенностью древнерусской исторической традиции явилось развитие ее с самого начала под мощным воздействием византийской хронографии. Образцом исторического труда с XI в. становится «Хроника» Георгия Амартола, отчасти более раннее, также построенное по хронологическому признаку сочинение Иоанна Малалы. Соответственно, и русские исторические сочинения, по крайней мере, с середины XI в., оформляются как летописи в собственном смысле слова. В известной степени это рационализировало и внутренне дисциплинировало труд, заставляло его автора внимательнее относиться к параллельно излагаемым фактам «большой» истории. Введение этнического прошлого в широкий мировой контекст и четкие хронологические рамки выдавливали за пределы текста мифологизм, а также и размывали архаическую структуру родословного предания. Поэтому в русском летописании XI–XV вв. рационализирующее воздействие христианской мысли выразилось по максимуму.
В сравнении и с сербской, и с болгарской, и с польской — и со многими образцами неславянской средневековой хронистики Европы в русских исторических сочинениях при описании дохристианской эпохи до удивительного мало фантастического и мифического. Это способствовало некоторому смещению исследовательского восприятия применительно к русским памятникам. Даже полные эпики повествования о походе Олега на Византию, войнах Святослава и т. д. производили подчас на первых исследователей ощущение (конечно, ошибочное) документального отчета. Характерно, кстати, что с русской традицией многим здесь роднится чешская средневековая историография, также изначально ориентированная на форму развернутых анналов. Впрочем, здесь присутствовали причины и более высокого характера. Для славянской культуры средневековья (в наименьшей мере для польской, которая не испытала влияния кирилло-мефодиевской традиции) характерен более глубокий разрыв с языческим прошлым, чем для германцев и для кельтов. Ничего подобного «Эддам» или ирландским скелам с их поэтизацией языческой старины мы не находим в славянских литературах — подобное даже трудно представить в их контексте.
Начало русского летописания (но не появление целостных памятников) следует относить ко времени распространения христианства и византийской по происхождению книжкой культуры. Это не исключает появления еще ранее каких-то отрывочных лапидарных записей. Первый же свод исторического (не обязательно, впрочем, летописного) характера сложился не позднее третьего десятилетия XI в. В этом раннем памятнике древнейшая история не рассматривалась. Тем не менее и в нем отразились некоторые предания не только о древнейшей поре истории Руси, но и отчасти о прошлом отдельных восточнославянских племен (уличей, радимичей).
Новый этап в отражении событий ранней восточнославянской истории открыл Киевский свод 1070-х или начала 1080-х гг., к которому восходит, во всяком случае, основной объем древнейшей части Новгородской 1 летописи младшего извода. Свод, легший в основу древнейших известий последней, идентифицируется как Начальный свод. Позже он станет основным источником «Повести временных лет». Начальный свод излагает уже основную канву преданий о начале Киева, Руси и династии Рюриковичей. Его автор попытался при изложении истории до-Рюриковой остаться, тем не менее, в рамках династического предания. Поэтому он не концентрируется на ранней племенной истории, ограничиваясь пересказом преданий о Кие и хазарской дани. Его попытка ввести раннюю историю в хронологический контекст через группировку всех событий, связанных с «началом Русской земли», под 854 г., выглядит еще очень искусственно.
За узкие рамки исключительно «преддинастической» традиции решительно выходит «Повесть временных лет», автор которой Нестор в начале XII в. создал широкое полотно ранней истории восточного славянства и Руси. Повесть временных лет дошла в позднейших редакциях, созданных в том же XII в. Однако детальное изучение текстов сохранившихся (в том числе фрагментарно у В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина) летописных памятников позволяет с известной долей уверенности воссоздать первоначальный текст. Внутренняя цельность и полнота Повести, а также ее роль как официальной киевской летописи стали причинами, по которой ее воспроизводили все летописцы до XVII в. Иногда, впрочем, наряду с ней привлекался и Начальный свод.
Нестор уже детализировал (заметим — весьма талантливо и по-своему убедительно) хронологию первых десятилетий Рюриковичей, но принципиально отказался от датировки предания о Кие и иных «додинастических» сюжетов. В этом проявился здравый смысл, указывавший на отсутствие датирующих оснований в преданиях преимущественно топонимического и эпического характера. Но в таком отказе нет ни тени пренебрежения к не связанной с первыми Рюриковичами устной традиции. Напротив, для автора Повести сюжеты предыстории Руси («откуду есть пошла») равноценны истории собственно ее возникновения («стала есть»). Это отражено и в заглавии предпосланного летописи введения. В то же время отказ от хронологии в этом введении — и не возврат к архаической модели вневременного, не ищущего внешних опор предания. Напротив, внешний контекст древнейшей истории неимоверно расширялся по сравнению с Начальным сводом. Происхождение славян прослеживалось летописцем начала XII в. уже от времен Ноя, им подыскивались античные соответствия, а история христианства на Руси теперь начиналась с апостола Андрея.
При воспроизведении огромного количества известных ему из разных источников преданий о происхождении восточнославянских «родов» летописец прибег, по сути, к назывному методу. Предания не столько пересказываются, сколько перечисляются, за весьма редким изъятием. Исключение представляла только исключительно важная для летописца, очевидного патриота Киева, киевская традиция. Обогащенная легендой об апостоле Андрее, она, кроме того, и дополнена новыми сведениями о Кие, происходящими из области песенного эпоса. При интенсивном обращении к фольклору в Повести временных лет сохраняется основная тенденция русской традиции — последовательное изгнание связанных с язычеством фантастических, мифологических сюжетов. Единственным исключением, и то связанным уже с Рюриковичами, может быть сочтен широко известный рассказ о гибели князя Олега от коня. Однако он нужен летописцу в целях антиязыческой полемики. Ничего же подобного повествованию польского хрониста Винцентия Кадлубка о битве Крака с драконом, или упоминанию болгарской «Апокрифической летописи» о рождении Испора от коровы, мы не находим на Руси еще долгие века.
Используя Повесть временных лет и Начальный свод, позднейшие авторы в ряде случаев дополняли их новыми сюжетами и мотивами, заимствованными из местной устной традиции. Такие новые сюжеты и мотивы находим в ряде памятников эпохи феодальной раздробленности. Это, прежде всего, памятники новгородского летописания — в том числе местная редакция вводной части Повести, вошедшая в состав общерусского митрополичьего «Софийско-Новгородского» летописного свода начала XV в. В среде новгородского боярства имелась собственная, независимая от родового предания Рюриковичей, устная историческая традиция. Вместе с тем консерватизм летописной формы определял случайность заимствований из этих источников. Мы вновь имеем дело с называнием, но не с воспроизведением предания. Время воспроизведения новгородской традиции уже в явно разложившейся форме, но зато с сохранением ряда весьма архаичных мифологических элементов (например, сюжет о князе-оборотне Волхе), настало только в XVII столетии.
Подобно новгородским поступали и летописцы других земель, в частности киевский летописец 1230-х гг., чье сочинение легло в основу «русских» известий польского хрониста XV в. Яна Длугоша. Этот автор основывал свое повествование на Начальном своде, но дополнил его рядом оригинальных известий, отражающих устные предания. И здесь мы встречаем тот же назывной метод вкраплений новых мотивов в летописный образец, и опять-таки отсутствие мифологических элементов фольклора.
Из позднейших летописных памятников стоит выделить фундаментальные летописные своды XVI столетия — Воскресенскую и Никоновскую летописи. Эти и подобные им памятники нередко привлекали дополнительные сведения из становившихся известными их авторам преданий, в том числе местных. Однако информация из устных, подлинно народных источников, подчас смешивалась с домыслами и откровенными вымыслами. Следует помнить, что дружинно-аристократические родовые предания русской знати киевского периода безвозвратно ушли в прошлое после монгольского нашествия, с усилением новых политических центров — Московской Руси и Великого княжества Литовского.
Это сказывалось на качестве информации, попадавшей в руки местных историков XVI–XVII вв. Из многочисленных источников, отражающих местные предания XVII столетия, для нашей темы значительный интерес представляет «Сказание о зачале Новаграда», имеющее как литературные, так и фольклорные параллели. Легенды, вплетенные его создателем в ткань возвеличивающего родной город повествования, конечно, не должны приниматься на веру. Даже просто как подлинное отражение «древних» преданий. Они должны тщательно анализироваться. Только установление всех внешних источников и параллелей позволяет выделить в «Сказании» зерно, действительно восходящее к народным преданиям. И «работать» с целью выявления исторических оснований тысячелетней давности уже с этим зерном. Дело несколько осложняется тем, что «Сказание» оказалось в тени т. н. «Иоакимовской летописи» — близкого по характеру сочинения конца XVII или первой половины XVIII в., сохраненного русским историком В.Н. Татищевым. Свидетельства самого В.Н. Татищева о ее происхождении и изучение «летописи» наводят на мысль, что на самом деле это компиляция на основе разных, в том числе несохранившихся, источников, создание которой невольно инициировано самим Татищевым.