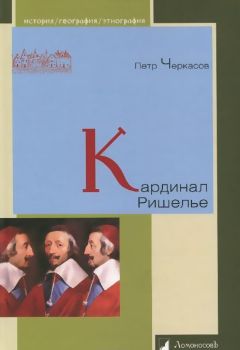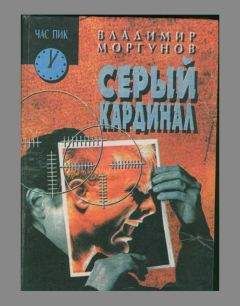Владимир Успенский - Тайный советник вождя
— Я понимаю вас, когда смотрю на события отсюда, из Москвы. Принимаю логику ваших рассуждений. Здесь — стратегия. Но когда находишься там, где идет бой, многое выглядит иначе. Особенно у нас в Германии.
— Почему именно в Германии? — спросил Сталин.
— Мы, немцы, гораздо дисциплинированнее французов или англичан, мы привыкли точно выполнять указания, решение Коминтерна о борьбе с социал-демократами воспринято нашими коммунистами как приказ: хочешь не хочешь, а действуй. И мы выступили против своих же товарищей-рабочих, против друзей, вместе с которыми еще недавно поднимали красное знамя революции, сражались на одних баррикадах. Со своей стороны, социал-демократы обижены и оскорблены тем, что мы объявили их вольными или невольными пособниками фашизма.
— У рабочих должна быть только одна партия — Коммунистическая партия, — сказал Сталин.
— Но какой ценой! Рабочий пошел у нас против рабочего, брат против брата. Мы деремся между собой, а громилы-наци делают свое дело. Адольф Гитлер близок теперь к власти, как никогда.
— Немецким коммунистам сейчас особенно трудно, — подтвердил Сталин. Немецкие коммунисты оказались между двух огней. Но яростная борьба только закаляет партию. Отсеется весь мусор, останется здоровое ядро и мы еще посмеемся вместе над нашими страхами и над Гитлером, — улыбнулся Иосиф Виссарионович.
— Пока что Гитлер смеется и над нами, и над социал-демократами, невесело ответил Эрнест. — Получается так, будто мы сами расчищаем ему дорогу.
— Это явное преувеличение.
— Во всяком случае мы не способны теперь оказать фашистам решительного сопротивления…
Немецкий товарищ столько раз и с такой горечью, с такой ненавистью повторил во время разговора новое для меня имя — Гитлер, — что оно с того дня врезалось в мою память.
18Сельское хозяйство больше всего беспокоило теперь Сталина, членов Партбюро и вообще всех руководителей, не лишенных способности размышлять. Деревня совершенно отбилась от рук. Получив землю, мужик распоряжался ею по своему разумению, заботясь лишь о своих нуждах, не думая о том, как кормить город и армию, снабжать сырьем промышленные предприятия. Пущай, мол, государство этим антирисуется, а наше дело маленькое: чтоб в избе сыто да тепло, чтоб на базаре лишек продать, а взамен керосина приобрести, серников, сахара да одежонку кое-какую, вот и вся азбука. После долгого многовекового угнетения тешился теперь крестьянин полной свободой и независимостью.
Вообще-то положение с продовольствием в стране было вполне сносное, народ давно оправился от страшной послевоенной голодовки. Зерна хватило и людей накормить, и скот, и птицу, да еще и за рубеж продавали наш хлебушек. Например, зимой 1926-27 года продали за границу 153 миллиона пудов подкармливали Европу в обмен на промышленные товары. Посевная площадь достигла довоенного уровня, зародилась идея освоения целины. Хлеба производилось почти столько же, сколько и до мировой войны — около 5 миллиардов пудов. А вот заготавливалось вдвое меньше довоенного уровня. Почему? Да потому, что до революции подавляющую часть товарного хлеба давали крупные помещичьи и кулацкие хозяйства: у них машины применялись, урожай был высокий. А теперь в стране насчитывалось до 25 миллионов мелких крестьянских хозяйств и они работали в основном на себя, обеспечивали собственные нужды. Редкие островки слабых еще колхозов и совхозов не могли существенно влиять на сложившееся положение.
Выход виделся только один: создавать на новой основе крупные, экономически выгодные хозяйства.
Иосифа Виссарионовича, любившего четкость и порядок во всем, раздражала и злила неуправляемость, анархичность огромной, неорганизованной, непонятной ему крестьянской массы. Она почти не зависела от партийного руководства, от государственного аппарата. Сталин даже опасался крестьянства, считая его оплотом тех деятелей, которые мечтали о реставрации капитализма в России. Иосиф Виссарионович едва сдерживал гнев, когда при нем говорили: давайте, дескать, развивать крепкие крестьянские дворы, уже теперь дающие значительную долю товарного хлеба. Чего их бояться, зажиточных семей-то? Они ведь не страшнее, не хуже городских предпринимателей, торговцев, которым дали свободу действий при НЭПе и чья инициативность помогла восстановить нашу промышленность.
— Нет и нет! — решительно возражал Сталин. — В городе мы можем противопоставить мелкому капиталисту крупное социалистическое производство, дающее девять десятых всех товаров. А крупному кулацкому хозяйству нам нечего противопоставить, кроме совхозов и колхозов, но они дают пока в восемь раз меньше хлеба, чем кулаки. И влияние их соответствующее. Главная наша помеха — кулак. Его надо убрать с дороги.
— А есть что будем? — этот вопрос не мог не интересовать меня.
— Мы объединим мелкие, распыленные крестьянские хозяйства в коллективы для совместной обработки земли. С применением сельскохозяйственных машин, тракторов, удобрений, с использованием научных приемов интенсификации земледелия. На практике покажем крестьянину преимущества коллективной работы, убедим его.
Так говорил Иосиф Виссарионович — в двадцать седьмом — двадцать восьмом годах с высоких трибун, в частных беседах, и не было серьезных оснований не соглашаться с ним. Крупное хозяйство целесообразней мелкого? Безусловно! Однако действовать надо очень осторожно, без спешки. Ведь была уже в России попытка объединить крестьянские семьи, заставить крестьян работать сообща, по четкому распорядку, иметь общий скот…
— Когда? Где? — спросил Сталин.
— В первой половине прошлого века, в военных поселениях, насаждавшихся Аракчеевым, а затем Бенкендорфом. Крестьян переселяли в общие дома-связки, на работу отправляли каждый день по сигналу, трудились они по расписанию и в страду, и когда нечего было делать. Несогласных гнали в Сибирь. И пошло от этого, с позволения сказать, труда оскудение и разорение, продолжавшееся несколько десятилетий. А кончилось все бунтом, кровопролитием, возвращением к прошлому способу хозяйствования.
— У нас совершенно другие цели, совершенно другая основа, — возразил Иосиф Виссарионович. Мы заботимся прежде всего об интересах народа.
— Тут важен сам принцип, — упорствовал я, — принцип полной осознанности и заинтересованности. Вы, конечно, знаете о полководце Отечественной войны фельдмаршале Барклае де Толли?
— Слышал.
— Оный фельдмаршал, Михаил Богданович, человек насквозь военный, и тот возмущен был чрезмерной заорганизованностью крестьян, усматривал в этом один только вред. Вот его слова. — Я полистал блокнот. — Михаил Богданович писал, что успех может быть только там, где "земледельцу дана совершенная свобода действовать в своем хозяйстве, где он не подвержен никакому стеснению в распоряжении временем как для земледельческих работ, так и для других занятий и позволенных промыслов, где повинности, на него возложенные, не превышают сил и способностей его и где, наконец, есть полная уверенность, что оседлость и приобретенное временем и трудом имущество останутся непременно потомственным наследством не в ином, а в его роду, и никакое самовластие не может лишить поселянина эти прав…". Думаю, что фельдмаршал близок к истине.
— Сапожник рассуждает о выпечке пирогов, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Оставьте, пожалуйста, мне эту цитату.
Я оставил. А чего добился? Сталин поступил как раз противоположно тому, что утверждал Михаил Богданович. И еще — у Сталина сложилось почему-то превратное мнение о Барклае де Толли, и он навсегда зачислил фельдмаршала, вполне порядочного человека, в разряд "махровых реакционеров".
В ту пору мне ближе и понятней были устремления не Иосифа Виссарионовича, а главного в нашем правительстве знатока русской деревни Михаила Ивановича Калинина. Он настойчиво подчеркивал, что крестьянин должен войти в колхоз или совхоз только добровольно, без подпихивания, иначе он и работать не будет. Мужик должен сам понять, что в колхозе ему лучше — тогда дело станет надежным.
Мы с Михаилом Ивановичем несколько раз беседовали на эту тему, исходя не из теории, как Сталин и Микоян, а из практического опыта, из понимания особенностей деревенской жизни. Хочу отметить, что Калинин редко и неохотно употреблял слово «кулак», заменяя его определениями "справный хозяин", "самостоятельный крестьянин". Оно и верно. Октябрьская революция уравняла всех, богатеев и бедняков, поставив их на одну исходную линию. Все крестьяне получили одинаковые возможности, одинаковое количество земли на человека. Бывшие бедняки при этом имели даже некоторые преимущества. А вот распорядились-то крестьяне землей по-разному, и очень скоро, за несколько лет, стало ясно, кто способен к труду, а кто, неисправимый бездельник, неудачник, пропойца. Начав с одного уровня, деревня опять стремительно расслоилась на три основных категории. Тот, кто работал не щадя себя и, как говорится, живот надрывал — тот быстро окреп. Но это в основном был уже не прежний кулак, даже по своему корню. Добротным хозяйством обзавелись вчерашние бедняки и середняки. Много было и тех, кто со всей страстью сражался с белогвардейцами за землю и волю, а теперь с такой же страстью обрабатывал свой надел. Как же назвать таких людей врагами новой власти? Тем более, что сама власть еще недавно поощряла их, призывала давать как можно больше продуктов, сырья. Да и вообще, как определить ту ступень, до которой крестьянин еще не кулак, еще свой человек, а не лютый враг?! Лишней мерой зерна? Лишней коровой? Зыбкий критерий. На Кубани, к примеру, средним считалось хозяйство с парой лошадей, с двумя-тремя коровами, с упряжкой быков, с овцами. Среди скотоводов юга человек с сотней овец слыл чуть ли ни бедняком. А где-нибудь возле Вологды, в Нечерноземье, крестьянина с двумя лошадьми, с коровой и телкой записывали в кулаки. Ну, и бедняк стал, конечно, совершенно не тот. Советская власть всем дала возможность трудиться, а уж как ты эти возможности используешь, это твое дело. Всегда обнаружится изрядное количество людей безответственных, равнодушных, ленивых, привыкших существовать на авось, не думая о завтрашнем дне. Перекантуются как-нибудь на подхвате, за счет куска с богатого стола. Эти люди неисправимы и неистребимы, они были, есть и будут, и чем зажиточней общество, тем таких бездельников (в разной форме) становится больше. Уже в шестидесятых годах было подсчитано и опубликовано, что восемьдесят процентов всех дел в нашей стране осуществляют двадцать процентов работников, из них примерно половина представители умственного труда. И лишь двадцать процентов дел со скрипом «проворачивают» остальные восемьдесят процентов трудоспособного населения. А вот потребляют и те и другие практически одинаково!