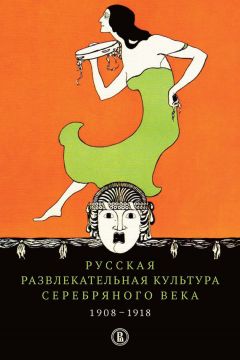Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
Однако Дягилев был далеко не единственным в русской действительности человеком, одушевлявшим окружающих. Так, рядом с ним на протяжении долгого времени находился Вальтер Федорович Нувель, о котором тот же Бенуа писал: «Я верю в Валичку, и не то что в композитора Нувеля или магистра графа Новицкого <…> но именно в Валичку, такого, каким мы его знаем, с папироской в зубах, с подергиванием усиков, с судорожным смехом и сентиментальным рукопожатием! Валичка! да это перец, без которого все наши обеды были бы просто хламом, да не только перец или не столько перец, сколько маленькая грелка, ставящаяся под блюда; положим, горит в нем спирт, а не смола, но все же горит, все же пламя есть, а пламя, как в ночнике, так и на солнце — все же пламя, животворящее начало, свет и жар; и спичка может поджечь город и бесконечное пространство леса или степей — и я кланяюсь перед спичкой, перед зажженной. Я вовсе не хочу этим сказать, что я Валичку мало уважаю и отношусь к нему покровительственно; das sei ferne. Но я хочу этим сказать, что Валичка не костер, каким был Вагнер, и не солнце, как Будда <…> что в Валичке мало материи, которая горит (в нас всех очень ее мало <…>), но что есть, то горит и может поджечь, и я, как истый огнепоклонник, кланяюсь ему и заклинаю его, чтоб он бережно обращался с собой, чтоб не потушить себя, что было бы грустно и для нас и для него. Но, кажется, моя просьба в данный момент mal a propos, так как он не думает потухать, а как раз разгорается все ярче и ярче, что весьма отрадно. <…> Валичка — спирт, это недурно, он, правда, веселый, зеленоватый, издавая легкий гниленький запах, играя — кусливый, но в то же время такой, что к нему серьезно не относишься, хотя он и опасный»[472].
Нувель был своим не только для Дягилева (о котором под конец жизни написал книгу) и для прочих «мирискусников»; не только для «современников», т. е. членов кружка «Вечера современной музыки»; не только для соратника по гомосексуальным эскападам М. Кузмина, но и для таких разных людей, как Зинаида Гиппиус и Вячеслав Иванов, для только входивших в литературную жизнь прозаика С. А. Ауслендера и будущего литературоведа А. А. Смирнова[473]. И не без его влияния вечера «современников» из домашних собраний превращались в открытые вечера, часто становившиеся событиями в жизни музыкального Петербурга; Вячеслав Иванов устраивал на «башне» собрания, носившие имя «вечера Гафиза»; Кузмин получал от него советы, как лучше устраивать свою литературную позицию; он еще в 1907 году агитировал за создание петербургского символистского журнала (который через два года появился под названием «Аполлон») — и описание его роли в жизни артистического Петербурга можно было бы продолжать далее.
Из того же разряда людей был не слишком удачливый актер Борис Пронин, вошедший в историю как основатель «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов». Их завсегдатай Георгий Иванов рассказывал в скандально прославленных «Петербургских зимах»: «…Пронин засыпал собеседника словами. <…> — Понимаешь… знаешь… клянусь… гениально… невероятно… три дня… Мейерхольд… градоначальник… Ида Рубинштейн… Верхарн… смета… Судейкин… гениально… — как горох, летело из его не перестававшего улыбаться рта. <…> какие-то крупинки эта мельница, рассчитанная, казалось бы, на сотни пудов, все-таки молола. „Что-то“, в конце концов, получалось или „наворачивалось“, как Пронин выражался. Так, навернулись по очереди — „Дом интермедии“, потом „Бродячая собака“, наконец, „Привал комедиантов“. Не так мало, в сущности…»[474] Это писалось в 1920-е годы; сейчас «Собака» стала не просто легендой, а легендой, овеществленной в бездарное подражание. Именно бездарность, впрочем, свидетельствует о легендарности.
Кажется, и Осип Брик был человеком того же типа. Неосуществившийся прозаик, рядовой и малоплодовитый критик, автор почти выпавших из актуального литературоведения (но для своего времени, прямо скажем, незаурядных) статей о поэтике, — он был силен тем, что для Маяковского, Шкловского, Тынянова становился бродильным зерном, позволявшим им осуществлять свои художественные и научные идеи. И дело опять-таки не в деньгах от ювелирного заводика или заступничестве перед ВЧК, а в одушевлении, которое ничем заменить было невозможно.
И мы берем только наиболее чистые случаи, рядом с которыми, вероятно, следовало бы поставить, скажем, влияние женщин — наиболее знаменитой изо всех Лили Брик, Нины Петровской, М. И. Будберг и других. Об этом должен быть особый разговор, здесь невозможный.
2На фоне тех людей, которых мы называли, Михаил Николаевич Семенов несравненно менее известен. Долгое время он вообще не привлекал почти ничьего внимания. Современники вспоминали о нем очень редко, а исследователи, не имея свидетельств, могли лишь подозревать его роль в культуре XX века. Его имя стало появляться среди сколько-нибудь значимых для истории лишь в семидесятые годы XX века, но еще только на периферии, в списках и перечнях, — то среди организаторов марксистской печати 1890-х годов, то среди деятелей символистского движения. Распространенность фамилии и фрагментарность достоверно известного требовала разумной осторожности в справках. Едва ли не самыми развернутыми были две, появившиеся в 1976 и 1978 годах[475], причем автор второй, зная о существовании итальянского варианта книги воспоминаний Семенова, еще не имел возможности с нею ознакомиться. Напомним современным читателям, что научные контакты с Западом в то время были чрезвычайно ограниченны и опасны как для живших в СССР, так и для зарубежных ученых: для первых — статьей 190 прим, каравшей за изготовление и распространение антисоветских печатных материалов, для вторых — запретом на последующий въезд, высылкой, а то и жестоким избиением. И уж если даже книга воспоминаний безвестного русского на сравнительно мало кому доступном итальянском языке была недостижима, то еще более невозможно было думать о том, чтобы прочитать газетный вариант этих воспоминаний, печатавшийся в 1950 году в газете «Русская мысль», имевшей — и заслуженно имевшей! — репутацию законченно антисоветского издания.
Лишь со временем из тьмы небытия стала вырисовываться его личность, а теперь, с публикацией чрезвычайно весомого (хотя и заведомо фрагментарного) текста воспоминаний, можно с полным основанием говорить о том значении, которое этот человек имел для самых различных предприятий, столь важных для истории русской культуры.
Произнося эти слова, мы отчетливо понимаем, что проводим своего рода вивисекцию, по живому режем предстающее цельным и единым, чтобы добиться каких-то собственных целей. Семенов писал воспоминания явно не для того, чтобы потомки извлекали из них сведения о толстовском движении, марксистской журналистике, ранних символистах, учении в германских университетах, парижской артистической жизни и прочих столь же интересных для сегодняшнего читателя вещах. Он описывает свою жизнь такой, какой она ему представлялась в глубокой по тем временам старости. И это представление с замечательной ясностью сформулировано в названии итальянского варианта мемуаров: «Вакх и сирены».
«В моей жизни преобладали три элемента: солнце, вино и женщины. Солнце дало мне здоровье, вино — радость, женщины — страдание» — так пишет Семенов в самом начале своих мемуаров, далее оговаривая, что о женщинах писать не будет. Но в том варианте, в каком книга предстает сейчас, она все же посвящена вину и женщинам, причем страдания, связанные с последними, оказываются на дальнем плане, почти незаметными. Даже на самых мрачных страницах всегда находится нечто, освещающее жизнь теплотой и радостью, как названное в том же перечне солнце.
Конечно, Семенова невозможно поставить в один ряд с теми выдающимися писателями, с которыми он был знаком и даже близок: Буниным и Брюсовым, Вяч. Ивановым и Бальмонтом, Волошиным и Андреем Белым. Вряд ли он может быть отнесен хотя бы даже к числу более или менее профессиональных литераторов. Но его повествование увлекательно, сюжеты остры и мастерски повернуты, портреты по большей части выразительны. И есть в воспоминаниях одна сторона, может быть не слишком бросающаяся в глаза, но о которой стоит упомянуть.
Если переформулировать итальянское название, то для времени конца XIX и самого начала XX века оно должно было бы звучать: «Дионис и Эрос», — оба имени входят в число основополагающих мифологем не только русского символизма, но и всей мировой литературы эпохи. Сознательно или бессознательно Семенов описывает свою жизнь под тем углом зрения, который определяется почти готовым клише. Но для него, ушедшего из литературы в годы, когда это клише только готовилось к употреблению, формульности еще не существует, есть лишь живая жизнь, подсвечиваемая мифологическими коннотациями.