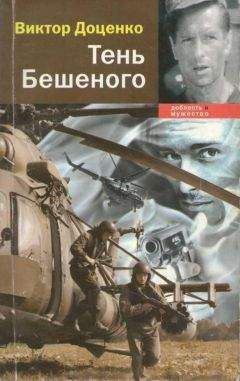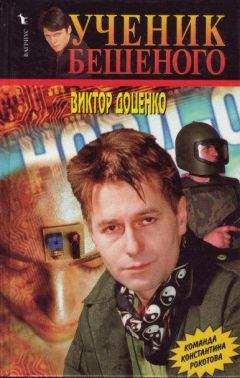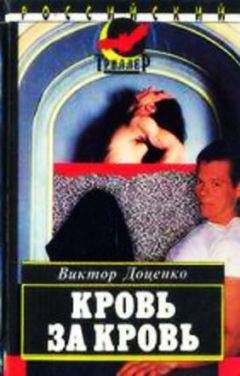Сергей Карпущенко - Коронованный странник
Александр едва поспевал за широко шагавшим рядом Бенкендорфом, идущим по залам дворца с гордо выпяченной грудью, и удивлялся про себя: "Да как же это Александр Христофорович, прослуживший у меня в генерал-адъютантах четыре года, не может признать во мне государя? Или все они сговорились, все притворяются, потешаются какой-то игрой? Вот и к Николаю войду, а он возьмет и скажет: "Ну, здравствуй, Норов! Ах, все перевернулось в жизни!"
Александр не знал, какая радость охватила Николая, когда он прочел покаянное письмо брата. Он, оскорбленный Норовым, потерявший надежду обрести когда-нибудь власть, узнал о смерти своего оскорбителя с ликованием. Одно лишь пугало - он не знал наверняка, постригся ли Александр; на свои средства, тайно рассылал агентов в монастыри, чтоб те выведали местонахождение венценосного монаха, но отовсюду соглядатаи Николая возвратились с одним ответом - вошедшего в обитель с именем "Александр" и имеющего внешнее сходство с государем, нигде нет.
Николай был счастлив ещё вчера, несказанно счастлив - он был признан царем, но сегодня, когда на Петровской площади собрались полки, кричавшие "Да здравствует Александр!", когда рядом с пушками Сухозанета он увидел человека, очень похожего на брата, трудно было бы сыскать более несчастного человека, чем Николай. Корона, под которой он собирался спрятать свою заурядность, который хотел достичь уважение, признание и любовь людей, ускользала из его рук. И сейчас, во дворце, в городе, где властвовал бунт, он не думал об убитых и ограбленных, о замерзших в пьяном виде. Николай тяжко страдал от ощущения собственного безвластия. И вот - письмо...
Александр по требованию Бенкендорфа сам отворил дверь кабинета, его кабинета, вошел в него и вначале никого не увидел, хотя успел заметить, что все здесь осталось на прежних местах, как тогда, когда иной раз посиживал он здесь за государственными бумагами или просто читая. Недоуменно посмотрел направо и налево, потом - назад: Николай со скрещенными на груди руками стоял у стены, где была дверь, и неподвижно смотрел на него своими выпуклыми глазами. Смотрел и молчал. Александр вначале хотел рухнуть на колени перед братом, но что-то удержало его. Он лишь понуро и виновато склонил голову:
- Вот, я пришел...
- Зачем? - отрывисто спросил Николай.
- Просить тебя, чтобы ты спас Россию.
Николай расхохотался неестественно громко, а потом резким голосом спросил:
- Я-то? А ты на что? Ну, ступай, спасай её, доведенную до бунта собственной блажью и легкомыслием. Ты долго правил, баловался реформами, точно дитя бирюльками. Потом в твою голову вошла идейка сделаться монахом, но, оказывается, ты и в этом не много преуспел! Зачем же ты явился в Петербурге? Снова поцарствовать решил?
- Нет, покуда я странствовал по России, я многое увидел и многое понял. Я хотел сделать людей счастливыми, даровать им свободы, но они...
Николай, влагая в резкое движение всю свою нелюбовь к брату, проистекавшую от зависти к его короне, визгливо закричал:
- Свободу?! Конституцию, наверно?! Какую, медвежью конституцию? Ну так бери те несколько батальонов, что у меня остались, иди в город, вяжи сих пьяных медведей, а после, уже утром, объяви им о конституции, о том, что свободным быть можно, но только помаленьку, чуток совсем, через представителей народных да местное управление! Берешь, берешь батальоны?
- Нет, не беру. Батальоны - это власть, а я устал от власти. Сделай всем сам. У Синего моста, в доме Российско-американской компании ты найдешь главных. А меня отпусти...
- Тебя отпустить?! - с брызгами слюны вытолкнул слова Николай, и глаза его сузились в презрительной и ненавидящей усмешке. - Нет, братец! Кто знает, что взбредет тебе в голову через месяц, через полгода. Тебя прозвали Благословенным, ты же привел Россию к смуте уже одним лишь тем, что не предал огласке содержание манифеста! Или ты уже тогда думал как-либо обыграть сей недочет? Нет, ты не уйдешь с миром, не станешь бродить по дорогам моей державы, мутить людей, смущать их своим сходством с Александром Благословенным! Я подыщу для тебя келью, тихую и чистую, но только не в монастыре, а в каземате Петропавловской крепости! Там ты, уже очень скоро, примешься за одну работу - опишешь все, что с тобой случилось, что привело тебя к решению отказаться от престола и что подтолкнуло тебя стать во главе бунта! Не праздного интереса ради я буду читать твои записки - я хочу узнать, что нужно делать для того, чтобы не стать таким, как ты Благословенным! Пусть меня потомки назовут иначе, но обо мне тоже будет помнить Россия!
Последняя фраза Николая закончилась каким-то плаксивым визгом, он несколько раз судорожно всхлипнул, но тут же опомнился, совладал с собой и уже куда-то в сторону окон. плотно занавешанных сборчатыми шторами, продолжил:
- Сейчас мои батальоны пойдут вязать не способных к сопротивлению пьяных медведей. Потом я сделаю все, чтобы вчерашний день не был моим позором. Потомки будут знать о нем, но я предстану как усмирить буйства, дурных страстей моего народа. Газеты напишут об этом дне так, как это нужно мне, иностранцев, видевших что-то, я постраюсь убедить в своей победе. Правда о прожитом вчера останется в бумагах, но эти бумаги я надежно спрячу, чтобы лишь спустя сто, а то и двести лет все узнали, как случилось это. Власть в России должна быть примером для всех народов мира, и пусть все нации поучатся у нас. Я, Николай Первый, докажу Европе, всем, все, что только сильный самодержец, а не парламент, не конституции, способен даровать стране мир, порядок, благоденствие!
Высказавший то, что прежде было спрятано в глубинах уязвленного сердца, тяжело дышащий Николай, по-вороньи хрипло крикнул:
- Бенкердо-о-орф!
Александр Христофорович, будто давно уж стоявший у дверей и ждавший приказа, тотчас явился. Николай, стуча каблуками ботфортов, с полминуты ходил по кабинету, потирая лоб. Остановился он внезапно и сказал, указывая рукой на Александра:
- Господин Норова до утра запри в одном из дворцовых покоев. Утром - в Петропавловку, в Кронверкскую картину. За сим отправишь с полроты преображенцев к Синему мосту, в дом Российско-американской торговой компании. И пусть Клейнмихель тут же ко мне зайдет. Ему сегодня ночью нескучно будет!
Когда Александр из кабинета выходил, обернувшись, тихо молвил:
- Ваше величество, милосердны будьте. Безрассудные они, но все же... русские.
- Прочь, прочь, юродивый проклятый! - истошно завопил Николай, хватаясь за голову. - А батюшку-то помнишь, помнишь?!
В ту ночь, пока ещё не забрезжил рассвет, Николай послал в разные части Петербурга верные ему войска - оставшихся в живых пребраженцев, семеновцев и павловцев. Солдаты, довольные же потому, что настало время сквитаться за поражение на Петровской площади, шли на дело с веселой серьезностью и были недовольны, увидев, что беспечные и успокоенные победой бунтовщики почти и не оказывают им сопротивление. Покорных и просто пьяных забирали - кого вязали, кого просто клали на телеги, - вели-везли к съезжим, сажали под замок в камеры по десять, по двадцать человек, где и троим бы тесно было, запирали в казармах. Офицеров же, как было приказано, вели по льду в Петропавловскую крепость и размещали в казематах. Тех, кто шебуршил да сопротивлялся, кололи и стреляли безо всякого милосердия, штатских буянов или отправляли под замок, или, отобрав оружие и раскровянив им лица - что делалось не по злобе, а порядку и маленько забавы ради, отправляли по домам, строго потребовав с них присяги государю Николаю Павловичу. Многих таких смутьянов заставляли поставить на колеса и на полозья перевернутые кареты, убрать с мостовых разбросанный хлам. И по причине столь категорично принятых мер горожане проснулись утром и не услышали ничего, кроме скрипа дворничьих лопат и далекого звона петропавловских курантов. Хозяева, чиновники выходили на улицы, и только разбитые стекла витрин и фонарей напоминали им о вчерашнем неспокойном дне.
ЭПИЛОГ
Василий Сергеевич Норов узнал о бунте в Петербурге, когда был в Москве - не успел ещё доехать до родового своего имения. Едва узнал, да ещё с подробностями, - от приятеля своего, - как сразу же понял, что должен явиться с повинной к властям. Он правил страной два года, будучи членом того самого общества, что подняло мятеж, а поэтому встать рядом, перед судом, вместе со своими товарищами, Муравьевым и Бестужевым, являлось для него делом не геройским совсем, а попросту необходимым и простым, естественным и не требующим воздаяния даже со стороны собственной совести.
Его привезли в Петербург, предпроводили в Петропавловскую крепость, доставили в Комендантский дом, где Николай тогда присутствовал на допросах, чинимых следственной комиссией мятежникам. Едва Николай увидев Норова, пошатнулся, цепко схватился за спинку стула, боясь упасть. Из-за гроба к нему явился оскорбитель, тот, кто знал о слабостях его, возможно, больше, чем все другие люди! Нужно было бы сдержаться, но не сдержался: