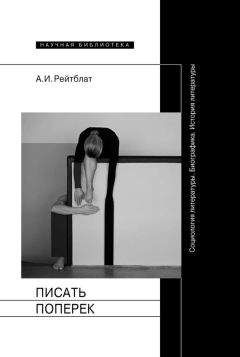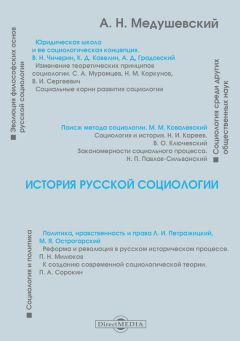Абрам Рейтблат - От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы
Интеллигенция, далекая, казалось бы (в силу образовательного и культурного статуса), от этих представлений, из-за исторических особенностей своего формирования идеализировала и идеологизировала эти черты культуры и, соответственно, третировала детектив. Сказывалось здесь и давление литературной традиции, предписывавшей книге просвещать и воспитывать читателя, а не развлекать его.
Симптоматично, с какой легкостью детектив исчез из русского книгоиздания после Октябрьской революции. Судьба детективной книги в годы советской власти – сложнейшая, почти не разработанная тема, которая нуждается в специальном исследовании.
СИМВОЛИСТЫ, ИХ ИЗДАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛИ
Последнее двадцатилетие отмечено усилением интереса к изучению русского символизма, в эти годы появилось немало ценных исследований и публикаций по данной теме. Однако посвящены они главным образом творчеству и биографиям писателей-символистов, а сторона институциональная (организационные формы движения, издательства, периодические органы, гонорары и т.д.) изучается гораздо менее интенсивно.
В данной статье мы ставим целью наметить основные аспекты изучения взаимоотношений писателей-символистов с издателями, в качестве основного фона и контекста для этого взяв возникновение, рост и развитие читательской аудитории символистов. Насколько нам известно, обобщающих работ на эту тему не было, хотя немало ценных наблюдений и соображений по данному вопросу содержат статьи и книги Н.А. Богомолова, Н.В. Котрелева, А.В. Лаврова, Р.Д. Тименчика и ряда других исследователей.
Период конца XIX – начала ХХ в. был отмечен принципиальными изменениями во взаимоотношениях писателей и издателей.
С резким ростом уровня грамотности населения и с приобщением крестьян к городскому образу жизни быстро увеличивалось число периодических изданий и число ежегодно выходивших названий книг. Усиление спроса на литературный труд привело к существенному росту в эти годы численности профессиональных литераторов и журналистов, многие из них получали высокие гонорары. Подобная профессионализация затронула прежде всего писателей-«реалистов» и представителей «массовой литературы», поскольку их «поддерживала» новая демократическая аудитория (мелкие служащие, земская интеллигенция, рабочие, народные учителя и т.п.)669.
Долгое время принципиально иначе складывалась ситуация у литераторов-символистов.
В конце XIX в. русского символизма как течения еще не было, еще не сложились организационные связи между пишущими в соответствующем ключе немногочисленными литераторами. Идейная и эстетическая близость у них существовала, сближала их и ориентация на французский символизм, но не было ни лидеров, ни объединяющих механизмов, ни печатных органов, а читатели не опознавали их как символистов. Сочувствовавший новейшим литературным течениям П.П. Перцов, выпустив в 1895 г. сборник «Молодая поэзия», включил в него лишь четырех авторов, относимых позднее к числу символистов (Бальмонта, Брюсова, Мережковского, Минского), что составило менее 10% общего числа (4 из 42). Показательно, что когда тот же Перцов в следующем году прочел в Русском литературном обществе реферат «Что такое современный символизм?», то даже в этой профессиональной аудитории «реферат вызвал какое-то недоумение: многие из присутствующих никак не могли освоиться с самым фактом существования некоего непонятного “символизма”»670.
Среди ранних символистов можно выделить две группы. Одну составили «перебежчики» из лагеря поздненароднической литературы (Минский, Мережковский, Гиппиус), которые ранее уже составили себе литературную репутацию и поэтому по инерции получали доступ в печать, хотя программные символистские произведения опубликовать не могли. Вторая группа была представлена начинающими литераторами, дилетантами (А. Добролюбов, И. Коневской, Брюсов и др.), которые не находили себе издателя.
И тем и другим (хотя и в разной степени) было трудно опубликовать свои произведения. По точному замечанию Д. Максимова, «главным признаком литературной позиции символистов 90-х гг. являлась ее полная обособленность в атмосфере враждебного окружения господствующей прессы»671. Эстетическая цензура в толстых журналах (по большей части либеральных) была очень жесткой. М. Волошин писал матери 29 августа 1901 г.: «Вы пишете, что почему бы мне не обратиться в “Рус[скую] мысль” да в “Рус[ские] ведомости” с предложениями корреспонденций. Это вещь совершенно немыслимая. Я смогу писать только о том, что меня интересует, т.е. об искусстве и новейших течениях литературы, а об этом ни одной строчки ни в одном из этих журналов не пропустят. Дело в том <…>, что у нас в России, кроме правительственной цензуры, существует еще другая частная, не по политическим вопросам, а по вопросам искусства, устроенная нашими собственными журналами. И цензура даже более строгая. Революционно-политические идеи все-таки проскальзывают: обиняками все можно сказать: цензора все-таки просто чиновники. А революционные идеи искусства проскочут не скоро. Редактора это считают своим личным интересом и тщательно оберегают русское общество, не пропуская с Запада ни одного нового течения. Они позволяют только издеваться над карикатурными произведениями бездарностей, которых они называют декадентами, и стараются уверить публику, что в этом-то и заключается все новое европейское искусство»672.
Исключение составляли «Мир искусства» (1898—1904) и «Северный вестник» (после перехода его к Л. Гуревич, т.е. в 1891—1898 гг.)673. Но в «Мире искусства» литературный отдел был небольшой (причем художественные произведения там не печатались), а «Северный вестник», как показал Д. Максимов, в ряде отношений был союзником символистов, активно печатал их (правда, преимущественно художественные произведения, а не публицистику и литературную критику), но существовали и серьезные расхождения (немало произведений символистов было отклонено или подверглось редакционной цензуре), поэтому своим считать этот журнал они все же не могли674.
В любом случае ни поместить все, что они создавали, ни обеспечить их материально эти издания не были способны. Поэтому символисты много печатались в иллюстрированных журналах (где контроль был мягче, поскольку не было стремления к идейной и эстетической выдержанности), а книги свои обычно издавали сами: Бальмонт К.Д. Сборник стихотворений. Ярославль, 1890; Брюсов В.Я. Chefs d’oeuvre. М., 1895; Он же. Me eum esse. М., 1897 (Брюсов выпустил также 3 коллективных сборника «Русские символисты» (М., 1894—1895)); Курсинский А.А. Полутени. М., 1896; Он же. Песни. М., 1902; Гиппиус Вл. Песни. СПб., 1897; Ланг А.А. Огненный труд: Статьи и стихи. М., 1899 (под псевд. Александр Березин); Коневской И. Мечты и думы. СПб., 1900; и др. Издать книгу тог-да было довольно легко. Издание первой книги Курсинского (5 печ. л.) обошлось рублей в 120—150675. Л. Гумилевский вспоминал, как после года учебы в университете у него собралась тетрадь стихов: «Недолго раздумывая, я отнес ее в типографию <…>, и вот на окнах книжных магазинов в городе появились зеленые книжки с типографской виньеткой, увенчанные женской головкой». Издание в 1910 г. книжечки «Избранных стихотворений» тиражом 500 экз. обошлось ему в 40 руб.676. Показательно следующее объяснение А.А. Курсинским (в письме В.Я. Брюсову от 2 июля 1895 г.) целей своего издания: «…я далек от мысли ждать хотя бы и скромного успеха от этого сборника. Отпечатаю не более 600 экземпляров, из которых в продажу пойдет приблизительно половина по высокой цене, чтобы вернуть хоть часть затрат по печатанию. Вся цель моя: отделаться от того, что написано уже мною, и дать по книжке моим друзьям <…>»677.
Однако подобные авторские издания либо проходили незамеченными, либо становились объектом критических насмешек. В последнем случае, правда, они получали (пусть отрицательную) известность, способствовали оформлению и пропаганде нового течения.
Приведем весьма выразительное признание Г. Шпета в 1912 г. в письме невесте о своих литературных вкусах в старших классах гимназии: «…эстетическое воспитание шло нелепо, и теоретически я продолжал считать, что чем “благороднее”, тем красивее, “неблагородных” поэтов я не читал (помилуйте, Фет – крепостник, Тютчев – цензор, сам Пушкин сомнителен и т.д.), поэтому Надсон еще оставался для меня “поэтом”, но его “благородство” уже стало казаться очень “газетным” <…>. Но “новое” как-то само надвигалось… Первый меня поразил, пожалуй, Верлен (русские, Бальмонт, Брюсов и др., уже начали писать, но я находился под впечатлением Соловьевской (Владимира) критики, и их не читал, но случайно натолкнулся и на русских, первый был Бальмонт»678.
Бальмонт стал первым признанным широкой аудиторией символистским поэтом. По свидетельству Н.А. Тэффи, «…Россия была <…> влюблена в Бальмонта. Все, от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии, знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки <…>»679.