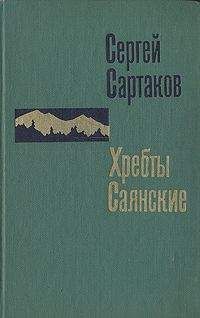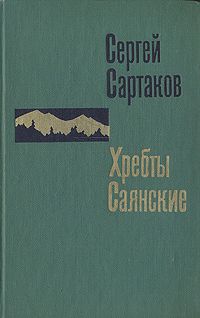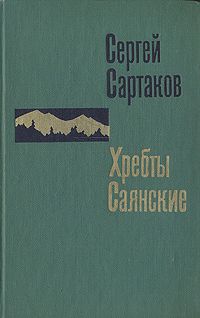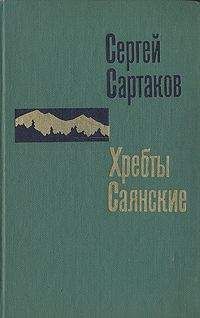Сергей Сартаков - Ледяной клад
Так, в неподвижности, они простояли несколько минут. Вдалеке все так же пел свою песню глухарь, теперь ему отзывался еще и второй - левее и глубже в лес; однообразно стучала капель, и возились в сухой траве мыши. Медведь дышал редко, шумно. Разглядывал Михаила круглыми, немигающими глазами, в которых, перемежаясь, вспыхивали тусклые зеленые огоньки. Потом он медленно приподнял лапу, занес ее высоко и с размаху ударил по корню. Рявкнул коротко. Корень хрустнул и надломился. Посыпалась галька, налипшая на него.
Михаил невольно отшатнулся, сделал полшага назад, не снимая, однако, руки с сучка. И настолько, насколько отступил Михаил, медведь подался вперед.
После этого они снова стояли, разглядывая друг друга. Становилось все светлее, и Михаил теперь мог различать даже оттенки цвета шерсти на голове медведя - от темно-рыжего с проседью до густо-черного. Пугали глаза жестокие, ненавидящие. Лапы казались чугунными.
К Михаилу постепенно вернулась способность размышлять логично и действенно. И хотя он по-прежнему знал, что больше не сдвинется с этого места ни на вершок и не снимет руки своей с сучка, думал теперь все время: как же ему уйти от медведя?
Он вытянул левую руку и положил ее рядом с правой. Грудью подался вперед. Медведь заревел, заворочал головой и, как почудилось Михаилу, плюнул в него. Михаил переступил ногами, сделал навстречу малюсеньких два шага. И снова зверь отозвался на это злым ревом.
Михаил насильно усмехнулся сухими, колючими губами, сглотнул полынную горечь, обжигавшую рот.
"Ну, а дальше, брат, что станем делать?" - спросил он мысленно не то себя, не то медведя.
И повел глазами по сторонам. Вообще-то капкан. Не захотел убежать сразу, сам влез сюда, теперь, если и захочешь, не убежишь. Сколько еще времени можно выстоять вот так? И сколько надо?..
Где-то за спиной у него, падая с высоты, тонко стучала по валежине редкая капель. Михаил не отсчитывал удары, но каждый из них нес в себе огромное время и почему-то острой, все нарастающей болью отзывался в темени.
Этих капель упало, должно быть, бесчисленное множество. Голова разболелась невыносимо.
Потом уже и капли перестали стучать по валежине - обсохла ветка или уши заглохли у Михаила? - потом и боль в голове, достигнув, наверно, своего предела, стала стихать, и схлынула полынная горечь во рту - Михаил все стоял истуканом. Стоял и еще долго. И еще... Стоял спокойно, неподвижно...
Медведь тоже стоял. И вдруг, пыля вокруг себя и шумно всхрапывая, затряс, зашатал остаток надломленного корня. Сбросил было - и опять положил на него лапы. Только теперь не сверху, а зажав корень в обхват. Тяжело навалился боком, вывернув к Михаилу морду с оскаленной пастью. Утробно поворчал, поворчал и затих.
У Михаила чувство страха прошло совсем. И оттого ли, что страх теперь не давил его больше, и оттого ли, что рассвет наступал все стремительнее, а когда светло, в мире становится веселее, Михаилу захотелось выкинуть какую-нибудь совершенно необыкновенную, отчаянную штуку. Он верил: раньше медведь не задрал его, а уж теперь-то и тем более не тронет!
- Слушай, - еще слегка срывающимся, тупым голосом сказал он зверю, слушай, ты оставайся, а я не могу, мне надоело, я пойду.
Медленно скрестил на груди одеревеневшие руки и, не поворачиваясь к медведю спиной, бочком, тихо пошел в сторону от него.
Медведь отозвался сдержанным, густым ревом. Упал на все четыре лапы, снова встал на дыбы, взревел уже во всю глотку и снова упал. Потом повернулся несколько раз, топчась на одном месте, и тоже пошел боком-боком, закосолапил, давя молодую чащу. Пошел за Михаилом, но не совсем по следу, а понемногу отставая и все сбиваясь в сторону. Иногда останавливался, ревел коротко, с придыханием, бил когтистой лапой по земле.
"А-а-э-и-их!" - отдавалось в гулком лесу. И мелкие пташки срывались с ветвей, беспокойно перелетали на другие деревья.
Восток уже начал желтеть, занимаясь над бором широкоохватной зарей, когда медведь бурым пятном мелькнул несколько раз в косогоре, взбираясь на перевал от ручья, и исчез за деревьями.
Тогда только полностью покинула Михаила тягучая скованность движений. Словно бы мягче, теплее сделались мускулы лица. А в уши потоком хлынуло бесконечное разнообразие утренних лесных голосов, как будто прежде их все забивал медведь одним своим ревом. Ему теперь и самому вдруг захотелось запеть. Размахнуться песней во всю таежную ширь...
А голоса не было.
Подумалось вдруг: а что, если все это могла видеть Федосья? Сидела бы где-нибудь в безопасном месте и - наблюдала. Интересно...
Михаил усмехнулся, присел на обросший лишайником дряблый пенек, погладил ноющие колени.
- Ну что, брат Мишка? - спросил он себя вполголоса, в радостном удивлении оглядывая серые, влажные тучи над бором, на востоке уже из-под низу позолоченные зарей. - Что, брат, жив? А ведь вообще-то мог бы ты остаться и там, под валежиной. "Остались от козлика рожки да ножки". Медведи, говорят, по весне очень злые. Голодные...
Он теперь уже хохотал во всю глотку, нервически подергивая плечами. Говорил громко, задиристо, будто спорил с кем-то вторым, перед ним стоящим.
- А-а? Ты бы, знаю я, побежал! Ха-ха-ха!.. Пятки у тебя так и чесались... Ну и что - может, вдогонку не бросился бы? Ха-ха-ха!.. А если бы бросился?.. Нет, брат! Дерет - пусть не со спины дерет! Пусть он лапой своей сперва глаза мне закроет!.. Ха-ха-ха!.. Ты бы, знаю я, лег, протянулся. Мертвыми даже голодный медведь брезгает... А я живой! Не желаю, чтобы мной брезгали... Живой!.. Ха-ха-ха!.. Хочешь - бери живого! Бери!.. Если возьмешь... Ха-ха-ха!..
Пошатываясь, как пьяный, Михаил поднялся, пошел вверх по косогору.
- Послушал, брат Мишка, глухарей! Погулял по лесу весело! Хорошо ночь провел! - бормотал он, хватая и надламывая на ходу макушки молодых лиственничек. - Эх, брат Мишка, вот она, тайга так тайга! Поживем, Мишка!
Он рванул с головы шапку, ударил ею об землю. Постоял с закрытыми глазами. Потом медленно повел рукой, словно кого-то отодвигая, отталкивая.
- Ну и все, - проговорил он редко и негромко. - Ну и шабаш. На этом и конец делу. Пошли домой, Мишка!
3
Цагеридзе в эту ночь тоже не спалось.
Павел Мефодьевич Загорецкий, который уже больше недели гостил на рейде и целыми часами бродил по береговой кромке льда, постукивая в него палочкой, заявил:
- Итак, Николай Григорьевич, по моим предположениям, Читаут должен вскрыться завтра во второй половине дня. Сопоставление показаний приборов с аналогичными записями прошлых лет приводит меня к такой мысли. На всякий случай имейте в виду эти мои соображения.
У Цагеридзе словно бы что-то застучало в горле, но он спросил с нарочитой беззаботностью:
- Это очень категорически предсказывают ваши тонкие приборы? А не может вскрыться река уже сегодня ночью?
Они разговаривали на берегу Читаута. Дул теплый верховой ветер. Загорецкий стоял, подставив ветру иссеченное морщинами лицо.
- Нет, не думаю, Николай Григорьевич, чтобы ледоход начался сегодня ночью, - проговорил он, наклоняя голову к плечу. - По моим наблюдениям, Читаут - река, как бы вам сказать, с открытой душой. Она не любит таиться. Она великий свой акт свершает всегда при дневном свете. А что касается моих приборов, они ничего не предсказывают. Предсказываю я. И если хотите, в значительной степени по интуиции. Термометры же и барометры для меня отмечают только, при каких атмосферных обстоятельствах началось очередное вскрытие реки.
Загорецкий спокойно отправился спать. А Цагеридзе не мог оставаться дома. Сперва ушел в контору, просматривал бумаги. Читал. Писал. Потом, когда наступила глубокая ночь и все в поселке замерло, побрел тихонько к Читауту.
В армии, в годы войны, он не был командиром, даже самым маленьким. Он выполнял безоговорочно приказы старших. Но иногда ему с обидою казалось: быть командиром, приказы отдавать легко - попробуй их выполнять! Сейчас он чувствовал себя генералом, который много месяцев готовил оборону, поднимал боевой дух у согласных, давил на несогласных силой своей власти, и вот теперь, когда разведка донесла - "враг близок, бой возможен на рассвете", он угнетенно думает: а что же он еще не предусмотрел, чего еще не сделал?
Ах, как легко и просто выполнять чужие приказы! Ах, как тревожно, как теснит в груди от собственных приказов в тот час, когда они вступают в решительное действие!
Не страшно - сделают начет, снимут с работы, отдадут под суд, как постоянно пророчит ему Василий Петрович. Страшно - не будет двадцати восьми тысяч кубометров превосходного леса, пропадет гигантский труд рабочих, поступившихся за эти месяцы очень многим. А главное - потеряют они твердую веру в свою силу, в силу ума человеческого.
Они ведь не слепо выполняли распоряжения "начальства", трудились не просто ради получения зарплаты. Они стремились отстоять от злой стихии народное богатство, общее богатство, теряя на этом много личного, своего. И трудно сейчас разобраться: рабочие ли выполняли распоряжения начальника или он, Николай Цагеридзе, выполнял, по существу, их волю, по праву старшего на рейде лишь подписывая свои приказы? Думали вместе, работали вместе. И доверяли друг другу. И верили в успех. А если все-таки случится катастрофа кто будет виноват?