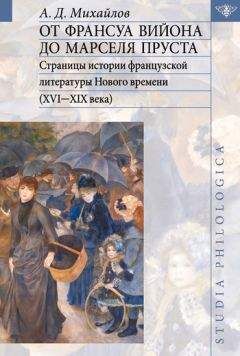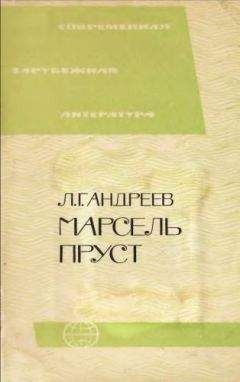Андрей Михайлов - От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том I
Таков же поэт и в иной ведущей теме своих эпиграмм – в насмешках над комичными слабостями людей, их негреховными прегрешениями – над любострастием, обжорством, пьянством, доверчивостью, простодушием. Это даже не насмешки, а усмешки, ибо поэт легко прощает своих безымянных героев. Едкая ирония и сарказм появляются у Маро, когда он переходит «на лица», когда обращается к своим идейным противникам или защищает от них своих друзей. Основной повод для сатирических выпадов Маро – это религиозная полемика. И в данном случае поэт продолжает традицию средневековой сатирической литературы, неизменно высмеивавшей мнимое благочестие священников и псевдоаскетизм монахов.
Маро создал свой стиль, который стал затем называться его именем – «маротический». Его трудно определить в одной сжатой формуле. Наиболее характерный его признак – простота и естественность. Артистизм поэта тщательно скрыт, внешне эпиграммы Маро наивно простодушны, слегка меланхоличны, чуть-чуть архаичны. Поэт широко использовал в своей лирике устарелую лексику, обращался к типично средневековым размерам (чаще всего десятисложнику) и строфике (восьмистишия и десятистишия).
Клеман Маро был блистательным зачинателем. Но его «школа» не развила уроки учителя. Эпиграмма только еще нащупывала свои новые жанровые признаки, и не все из них уже сформировались. Среди подобных признаков называют обычно три существеннейших. Это лаконизм, злободневная сатиричность, неожиданность развязки (в чем французская эпиграмма так сродни анекдоту). Стихотворения Маро и его ближайших последователей далеко не всегда лаконичны, и поэтому краткость и емкость формы обнаруживаются здесь не как норма, а как тенденция. Злободневность тоже лишь постепенно и далеко не всегда учитывается. Правда, веселость, шутливость со времен Маро становится непременным качеством французской эпиграммы. Они легко уживаются рядом с описательностью и дидактикой (но рассудочность не становится у Маро рассудительностью). Что касается остро ты разрешения микросюжета, то этот признак «классической» эпиграммы проявляется у нашего поэта далеко не всегда. Но вот что примечательно. Наличие такой вот неожиданной, острой, в известной мере даже афористичной развязки было, как известно, обязательным условием другого популярнейшего стихотворного жанра Возрождения – сонета. Маро включил несколько сонетов в свой эпиграмматический цикл. Некоторые теоретики эпохи (например, Тома Себиле) настойчиво сближали эпиграмму с сонетом. И во второй половине века, когда заметно поредели ряды учеников Маро, а главенство в поэзии перешло к «Плеяде» (Ронсар, Дю Белле и др.), Эпиграмма определенно приходит в забвение (созданные в эти десятилетия эпиграммы единичны). Можно предположить, что она была вытеснена сонетом, с успехом выполнявшим ее функции – и сатирического обличения, и философского, чуть ироничного размышления, и веселого прославления бесхитростных радостей бытия.
К эпиграмме вернулись, когда того потребовала политическая обстановка – решительное размежевание в обществе, находящемся в течение тридцатилетия в состоянии непрерывной гражданской войны. И эпиграмма была использована самым широким образом в религиозной полемике и политической борьбе. Стоит ли удивляться, что от этого периода до нас дошли в основном политические эпиграммы? Быть может, своим оформлением в сложившийся стихотворный жанр, отличный от переходной формы Маро, эпиграмма обязана политическому опыту так называемых Религиозных войн католиков и гугенотов (1562 – 1598) ничуть не меньше, чем издавна присущей французам склонности к иронии и юмору.
Это не значит, что традиции Маро и «маротический» стиль были забыты. Мы найдем убежденных последователей Маро и в следующем столетии (а некоторые поэты начнут со временем старательно имитировать приемы Маро-эпиграмматиста), но в целом тип эпиграммы меняется: она становится более личной, утрачивает свою медитативность и стремление к универсальным выводам, заостряется в развязке.
Нарождающийся классицизм оставил эпиграмму на периферии литературы. Буало, сам написавший более трех десятков стихотворений этого жанра, потребовал от эпиграммы лишь краткости и остроумия, не уточняя деталей. И хотя считается, что в «великое» столетие эпиграмма пребывала в «хаотическом состоянии», переживая если не прямой упадок, то несомненное измельчание и расшатывание формы, на деле все было совсем иначе: эпиграмма пышно расцвела, оттачивала свои приемы, привлекла внимание таких значительных поэтов, как Пьер Корнель, Поль Скаррон, Франсуа Менар, Жан де Лафонтен. Недаром Буало сердито констатировал в «Поэтическом искусстве» неудержимое проникновение стихии шутки, каламбура, вообще эпиграмматичности в другие жанры:
Повсюду встреченный приветствием и лаской,
Уселся каламбур на высоте парнасской.
Сперва он покорил без боя Мадригал;
Потом к нему в силки гордец Сонет попал;
Ему открыла дверь Трагедия радушно,
И приняла его Элегия послушно;
Расцвечивал герой остротой монолог;
Любовник без нее пролить слезу не мог;
Печальный пастушок, гуляющий по лугу,
Не забывал острить, пеняя на подругу.
(Перевод Э. Л. Линецкой)
Да, о некоторой размытости формы Эпиграммы сетования Буало говорят, но не говорят ли они и о стремительной экспансии этого жанра, обогащавшего другие жанры и обогащавшегося за их счет? Два основных направления эпохи не обошли Эпиграмму своим вниманием. Это и понятно. Классицизм, с его идеей подражания античности, с его культом ясной лапидарной формы, и барокко, с его пристальным интересом ко всему причудливому, неожиданному, острому, по-разному, но с равной степенью заинтересованности разрабатывали – на практике – этот неуловимый для определения жанр.
Именно в этот «великий» век складываются основные формальные признаки эпиграммы и отрабатывается ее тематика. Именно теперь эпиграмма становится сатирическим жанром. Она становится оружием в литературных спорах, в светской жизни, в политической борьбе. Это ее свойство четко осознается. Именно так воспринимали эпиграмму и у нас еще во времена Пушкина («Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага...»). А Монтескье назвал эпиграммы «маленькими отточенными стрелками, наносящими глубокие и неизлечимые раны». На иную едкую эпиграмму отвечали либо еще более едкой, либо ударом шпаги.
Такая ситуация говорит об определенном уровне развития общества (было бы упрощением просто считать его «светским»), о его сформированности, некоторой замкнутости, не исключающей, впрочем, и даже предполагающей как известную проницаемость его «оболочки», так и определенное равенство его членов (при всей многоступенчатой иерархичности его структуры). Четкость и определенность социальной среды, вне которой эпиграмма функционировать не может, достаточная широта этой среды (не «кружок», а именно «общество») и обеспечивает расцвет нашего жанра. Эпиграмматисты Древней Греции и Рима, даже Клеман Маро и его современники писали еще во многом «для себя», не видя перед собой реального адресата. Теперь, в XVII веке, все становится иначе. Эпиграмма предполагает конкретных читателей или слушателей и требует немедленного распространения. И вот что парадоксально: если раньше авторы эпиграмм, писавшие «для себя» или немногих друзей, все-таки публиковали свои произведения, то теперь эпиграмма часто надолго остается рукописной и даже изустной. И тем не менее, она молниеносно становится известной всему обществу, ибо живо интересует его, откликаясь на все волновавшие его события. Так эпиграмма становится едким и скептическим комментарием к истории эпохи.
Применительно к XVII столетию можно говорить по крайней мере о четырех линиях в развитии жанра. Впрочем, такое деление, конечно, условно, ибо между намеченными нами типами не было четких граней.
Во-первых, речь должна пойти о бытовой эпиграмме, осмеивающей, скажем, мнимую неподкупность судей, псевдоблагочестие монахов, пустословие адвокатов, шарлатанство врачей, кичливость новоиспеченных дворян и т. д. Во многом эти темы пришли из предыдущего столетия, как и соответствующие им формы: сторонники Маро с их «дизенами» (десятистрочниками) находятся и среди современников Корнеля и Буало.
Во-вторых, нельзя не сказать об эпиграмме политической. Ведь столетие было не только веком смешных жеманниц, версалей, шляп с пышными плюмажами и фейерверков, но и ожесточенной борьбы Фронды, непрерывной закулисной грызни временщиков и предприимчивых выскочек, продолжительных войн и народных бунтов. На все эти события откликались поэты, откликались быстро, смело, остроум но. Рядом с торжественной ложью официальной «высокой» поэзии «низкая» поэзия сатирической эпиграммы несла в себе правду жизни; пусть далеко не всю правду и в очень специфическом – юмористическом или же остро обличительном – преломлении, но все-таки правду, противостоя успокоительному обману королевских рескриптов, надгробных славословий, ура-патриотических поэм, возвышенных од и хвалебных сонетов. Шутка эпиграммы убивала их напыщенную лживость. Не приходится удивляться, что многие из подобных эпиграмм анонимны.