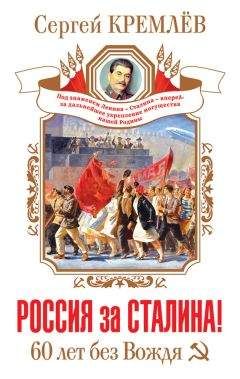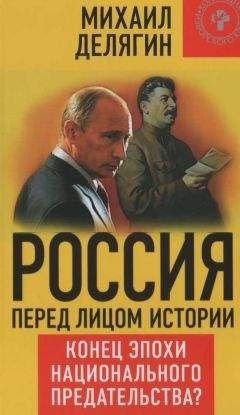Владимир Чунихин - Тайна 21 июня 1941
Будто бы на одном из пленумов после двадцатого съезда в президиум поступила записка без подписи. Там было написано примерно следующее: «Вы столько говорите про преступления культа личности, но почему только сейчас? Почему при Сталине вы молчали?»
Хрущёв прочёл её вслух, потом подошёл вплотную к залу и спросил: «Кто это написал?»
Молчание, долгая пауза. Тишина в зале.
Тогда Хрущёв сказал: «Молчите? Вот потому-то и мы тогда молчали».
В данном случае не очень важно, была ли в действительности эта история. Важно на самом деле то, что долгая жизнь этого рассказа свидетельствует о стремлении людей понять и объяснить для себя сущность того явления, которое принято именовать коротко и ёмко — 1937 год.
Я не буду сейчас подробно останавливаться на этой больной и сложной теме. Разговор здесь уместен обстоятельный и подробный. Во всяком случае, не в форме реплики в рамках небольшого очерка, посвящённого иной теме.
Но вот одну особенность упомянуть придётся.
Дело в том, что это знаменитое «вот потому-то и мы тогда молчали», близкое и понятное абсолютному большинству людей, было призвано вызвать сочувствие и понимание к тем, кто вынужден был тогда молчать. Ну, и конечно, отчасти объяснить, почему антисталинская кампания велась тогда именно в такой форме. Всё, вроде бы, просто. Раньше молчали из-за страха перед тираном. Тирана не стало, не осталось и причин для молчания.
Другой неудобный вопрос, почему кампания по обличению Сталина началась не в 1953 году, а тремя годами позже, объяснялся тоже просто.
А не знали.
Когда же про преступления эти через три года узнали, так сразу же и сказали людям правду.
Между тем, на самом деле почти сразу после смерти Сталина появились признаки того, что высшее руководство СССР намерено начать то, что впоследствии назвали «развенчание культа». Имеются сведения, что такие намерения были у Л.П.Берия. Во всяком случае, высказывался он по этому поводу вполне определённо. Были тогда такие настроения у Маленкова и даже Кагановича. Особняком держался, пожалуй. один только Молотов.
Как это ни странно, но именно Хрущёв тогда не поддержал активную антисталинскую линию. Не один, конечно. Но, если с Молотовым, например, здесь в общем-то всё понятно, то Хрущёв явно не вписывается в круг его единомышленников. Факт, однако, остаётся фактом. В 1953 году Н.С.Хрущёв не считал нужным развязывание антисталинской кампании. Почему-то.
Хотя тогда уже был настроен явно антисталински.
Константин Симонов. «Глазами человека моего поколения».
…Передо мной лежит сейчас пачка сложенных тогда, в пятьдесят третьем году, материалов и документов тех мартовских дней. Все засунуто в одну, много лет пролежавшую папку: траурная повязка, с которой стоял в почетном карауле, и пропуск на Красную площадь с надпечаткой «проход всюду»; стенограмма одного из двух писательских траурных собраний, на котором я выступал вместе со многими другими, и вырезка газетного отчета о другом писательском собрании, где я читал свои, плохие, несмотря на рыдания, стихи; пачка газет за те дни — «Правды», «Известий», «Литературки» и других.
Потом, спустя годы, разные писатели разное и по-разному писали о Сталине. Тогда же говорили, в общем, близко друг к другу — Тихонов, Сурков, Эренбург. Все сказанное тогда очень похоже. Может быть, некоторое различие в лексиконе, да и то не слишком заметное. В стихах тоже поражающе похожие ноты. Лучше всех — это неудивительно, учитывая меру таланта, — написал все-таки Твардовский; сдержаннее, точнее. Почти все до удивления сходились на одном:
В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду…
Это Твардовский.
Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин!
А это Симонов.
Обливается сердце кровью…
Наш родимый, наш дорогой!
Обхватив твое изголовье,
Плачет Родина над Тобой.
Это Берггольц.
И пусть в печали нас нельзя утешить,
Но он, Учитель, нас учил всегда:
Не падать духом, голову не вешать,
Какая б ни нагрянула беда.
А это Исаковский.
Похоже, очень похоже написали мы тогда эти стихи о Сталине. Ольга Берггольц, сидевшая в тридцать седьмом, Твардовский — сын раскулаченного, Симонов — дворянский отпрыск и старый сельский коммунист Михаил Исаковский, Можно бы к этому добавить и другие строки из других стихов людей с такими же разнообразными биографиями, связанными с разными поворотами судеб личности в сталинскую эпоху. Тем не менее схожесть стихов была рождена не обязанностью их написать — их можно было не писать, а глубоким внутренним чувством огромности потери, огромности случившегося. У нас были впереди потом еще долгие годы для того, чтобы попробовать разобраться в том, что это была за потеря, и лучше или хуже было бы — я не боюсь задавать себе этот достаточно жестокий вопрос — для всех нас и для страны, если бы эта потеря произошла не тогда, а еще позже. Во всем этом предстояло разбираться, особенно после XX съезда, но и до него тоже.
Однако сама огромность происшедшего не подлежала сомнению, и сила влияния личности Сталина и всего порядка вещей, связанного с этой личностью, для того круга людей, к которому я принадлежал, тоже не подлежала сомнению. И слово «потеря» уживалось со словом «печаль» без насилия авторов над собою в тех стихах, которые мы тогда написали. «Так это было на земле», — скажет немногим позже Твардовский, одним из самых первых и много глубже других начавший думать об этом…
…Мое сегодняшнее отношение к Сталину складывалось постепенно, четверть века. Оно почти сложилось — почти, потому что окончательно оно сложится, наверное, лишь в результате этой работы, первую часть которой я заканчиваю. А своего отношения к Сталину в те три года я не могу точно сформулировать: оно было очень неустойчивым. Меня метало между разными чувствами и разными точками зрения по разным поводам.
Первым, главным чувством было то, что мы лишились великого человека. Только потом возникло чувство, что лучше бы лишиться его пораньше, тогда, может быть, не было бы многих страшных вещей, связанных с последними годами его жизни. Но что было, то было, в истории нет вариантов. Варианты возможны только в будущем, в прошлом их не существует. Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго, в первые месяцы оно было особенно сильным. Очевидно, под влиянием этого чувства я вместе с еще одним литератором, любившим демонстрировать всю жизнь решимость своего характера, но в данном случае при возникновении опасности немедленно скрывшимся в кустах, сочинил передовую статью, опубликованную в «Литературной газете» девятнадцатого марта пятьдесят третьего года, в которой среди иного прочего было сказано следующее: «Самая важная, самая высокая задача, со всею настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина». В дальнейшем, правда, в передовой разъяснялось, что, рисуя образ Сталина, писатели создадут образ связанной с его деятельностью эпохи, свершений этой эпохи и так далее, и тому подобное, но исходная формулировка была именно такая. Передовая называлась «Священный долг писателя», и в приведенном мною абзаце первое, что вменялось писателям как их священный долг, было создание в литературе образа Сталина. Никто ровным счетом не заставлял меня это писать, я мог написать все это и по-другому, но написал именно так, и пассаж этот принадлежал не чьему-либо иному, а именно моему перу. Мною же был задан и общий тон этой передовой, в которой как священный долг писателей прежде всего рассматривались мемориальные задачи, а не обращение к нынешнему и будущему дню.
На мой тогдашний взгляд, передовая была как передовая, я не ждал от нее ни добра, ни худа, в основу ее легло мое выступление на происходившем перед этим митинге писателей, смысл которого в основном совпадал со смыслом передовой. Однако реакция на эту передовую внезапно оказалась очень бурной. Я к тому времени после долгой борьбы с разными людьми, не желавшими понимать, что я хочу продолжать хоть что-то писать, выговорил себе право еженедельно выпускать два из трех номеров газеты, а третий только вчерне подготавливать вместе с заместителем, этот третий, субботний, номер подписывал заместитель. Номер с передовой «Священный долг писателя» вышел в четверг. Четверг после его выхода я провел в редакции, готовя следующий номер, и, глядя на ночь, в пятницу уехал за город, на дачу, чтобы пятницу, субботу и воскресенье писать там, а утром в понедельник приехать в редакцию и с самого утра делать вторничный номер. Телефона на даче не было, и я вернулся в понедельник утром в Москву, ничего ровным счетом не ведая.