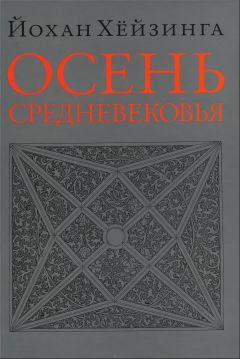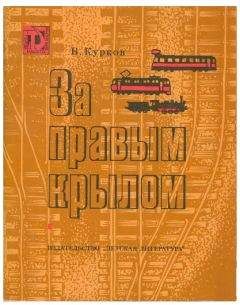Йохан Хейзинга - Осень средневековья
Этого, пожалуй, вполне достаточно, чтобы заставить нас задуматься о том, следует ли наше суждение о примитивности такого подхода выдавать за мудрость в ее последней инстанции.
Мы видим, как Дионисий Картузианец отчаянно борется за то, чтобы выразить представление о вечной жизни в терминах пространственной протяженности. Вечная жизнь обладает безмерною ценностью; иметь Бога в себе самом — значит достигнуть бесконечного совершенства; Спаситель обладает бесконечным достоинством и действенностью (efficacia); грех бесконечно безобразен, ибо он оскорбляет безмерную святость; отсюда возникает потребность противопоставить всему этому способность к восстановлению разрушенного[24]. Негативные по своему смыслу пространственные прилагательные призваны здесь неизменно вызывать представление о весомости, силе святости. Желая запечатлеть представление о вечности, Дионисий прибегает к следующему наглядному образу. Помыслите себе песчаную гору размерами со вселенную; каждые десять тысяч или сто тысяч лет из этой горы извлекают одну-единственную песчинку. В конце концов эта гора все же исчезнет. Но и по прошествии такого немыслимого периода времени адские муки нисколько не станут меньше; они будут ближе к концу не более, чем тогда, когда из этой горы была взята самая первая песчинка. И все же, если бы осужденные на вечные муки полагали, что они будут избавлены от своих мучений, как только от горы ничего не останется, то и это было бы для них превеликое утешение[25].
Когда же дело касается выражения небесных радостей или божественного величия, мыслям приходится буквально надрываться от напряжения. Выражение небесных радостей неизменно остается до крайности примитивным. Нарисовать картины счастья с той же яркостью, как жуткие и устрашающие, человеческий язык был не в состоянии. Чтобы еще более усугубить чрезмерность ужасов или бедствий, достаточно было всего лишь поглубже спуститься в низины собственного человеческого естества — тогда как для описания высшего блаженства нужно было, едва не вывихнув шею, устремлять свой взор к небу. Дионисий выбивается из сил, отчаянно выискивая превосходные степени, т. е. усиливая представление чисто математическим путем, не проясняя и не углубляя его: "Trinitas supersubstantialis, superadoranda et superbona... dirige nos ad superlucidam tui ipsius contemplationem" ["Троица пресущественная, предостопоклоняемая и преблагая... направи нас ко пресветлому тебя самой созерцанию"]. Господь — "supermisericordissimus, superdignissimus, superamabilissimus, supersplendidissimus, superomnipotens et supersapiens, supergloriosissimus" ["пpeмилосерднейший, предостойнейший, прелюбезнейший, преблистательнейший, превсемогущий и премудрый, преславнейший"][26].
Но что давало нагромождение всех этих "пре", всей этой вереницы представлений, связанных с высотой, шириной, безмерностью и неисчерпаемостью? Все это оставалось лишь образами, сведeнием бесконечного к конечным представлениям и тем самым — ослаблением и поверхностным пониманием бесконечного. Бесконечность вовсе не представляла собою безмерного времени. Всякое ощущение — будучи выражено — теряет свою непосредственность; всякое свойство, относимое к Богу, причиняет ущерб Его несказанному величию.
Здесь начинается неистовая борьба за восхождение духа к полной безoбразности Божества. Не сковываемая культурой или эпохой, эта борьба всегда и везде одинакова. "There is about mystical utterances an eternal unanimity which ought to make a critic stop and think, and which brings it about that the mystical classics have, as has been said, neither birthday nor native land"[27] ["Высказывания мистиков отличаются неизменным единодушием, которое должно было бы заставить критиков остановиться на миг и задуматься над тем, что оно означает: настоящий классический мистик, как уже было сказано, не имеет ни даты рождения, ни отечества"]. Однако от образности как от опоры нельзя отказаться сразу. Шаг за шагом создаются способы выражения недоступного. Прежде всего отступают конкретные воплощения идеи и спадают многоцветные одежды символики: нет более речи о крови и ее восстанавливающих свойствах, о евхаристии; нет ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа. В Экхартовой мистике Христос почти не упоминается, не говоря уже о Церкви и таинствах. Однако выражение мистических воззрений на Бытие, Истину, Божество остается все еще связанным с природными представлениями: светом и протяженностью. Затем они меняются на негативные: безмолвие, пустоту и мрак. Потом постигают недостаточность также и этих понятий, не обусловленных ни формой, ни содержанием; такой недостаток пытаются устранить соединением противоположностей. В конце концов не остается ничего, кроме чистого отрицания; Божество, которое не может быть постигнуто ни в чем существующем, потому что Оно стоит надо всем, мистики именуют Ничто. Так у Скота Эриугены[28], так и у Ангелуса Силезиуса:
Gott ist ein lauter Nichts, ihn ruhrt kein Nun noch Hier;
Je mehr du nach ihm greifst, je mehr entwird er dir.
Бог — чистое Ничто, вне здесь и вне сейчас;
Чем ближе мы к нему, тем дальше он от нас.
Продвижение созерцающего духа к отказу от всякого воображения в действительности вовсе не отличалось сколько-нибудь строгой последовательностью. В большинстве мистических высказываний разные фазы встречаются одновременно и вперемежку. Мы видим это у индусов, это достигает полного развития уже у Псевдо-Дионисия Ареопагита, источника всей христианской мистики, и вновь оживает в немецкой мистике XIV столетия[30].
Вот пример откровения, описываемого Дионисием Картузианцем[31]. Он беседует с Богом, который гневается. "При этом ответе брат, оборотившись вовнутрь, увидел себя как бы перенесенным в сферу беспредельного света, возлюбленнейшим и в несказанном покое, и воскликнул он втайне, вовне неслышимым криком, к всетаинственнейшему и поистине сокрытому, непостижимому Богу: "О сверхвозлюбленнейший Господь, Ты Сам — свет и средоточие света, где избранные Тобою взыскуют и обретают сладостный покой и отдохновение, дремлют и погружаются в сон. Ты подобен обширнейшей, ровнейшей и непроходимой пустыне, где истинно благочестивый дух, целиком очистившийся от любви к особливому, осиянный свыше и объятый весь жарким пламенем, странствует не блуждая и блуждает не странствуя, изнемогает в блаженстве и наслаждается непреходящим"". Здесь прежде всего появляется образ света, пока еще положительный, затем — сна, после этого — пустыни (представления о пространственной протяженности в двух измерениях) и, наконец, — взаимоснимающих друг друга противоположностей.
Образ пустыни, т. е. представление о протяженности по горизонтали, сменяется образом бездны, т. е. представлением о протяженности по вертикали. Это последнее было удивительно сильно и выразительно найденным мистическим образом. Формула бессвойственности божества в словах Экхарта о "безвидной и безoбразной бездне безмолвного, пустынного божества" сразу же внесла в понятие бесконечности некий эмоциональный момент, ощущение головокружительной кручи. Если о Паскале говорили, что он постоянно видел рядом с собою бездну, то здесь подобное же ощущение как бы переведено в непоколебимые суждения мистики. С помощью образов бездны и тишины достигается живейшее выражение мистического переживания, которому невозможно дать точное описание. "Wol uf dar, herz und sin und muot, — ликует Сузо, — in daz grundlos abgrund aller lieplichen dingen"[32] ["Так устремимся же, о сердце, ум, чувство <...> в бездонную бездну всех любожеланных вещей"]. Мастер Экхарт говорит об этом, затаив дыхание, в каком-то оцепенении: "Dirre funke (души?, мистическое ядро всякой твари) engnueget an vater noch an sune noch an heiligem geiste noch an den drin personen, als verre als ieclichiu bestet in ir eigenschaft. Ich spriche werliche, daz dieseme selben lichte niht begnueget an der einberkeit der fruhtberlichen art gotlicher nature. Ich wil noch me sprechen, daz noch wunderlicher lutet: ich spriche bi guoter warheit, das disem lichte niht genueget an dem einveltigen stillestanden gotlichen wesenne, daz weder git noch ennimet, mer: ez wil wizzen, wannen diz wesen har kome, ez wil in den einveltigen grunt, in die stillen wueste, da nie underscheit in geluogete weder vater noch sun noch heiligeist; in dem innegen, da nieman heime ist da benueget ez inme lichte, unt da ist ez einiger dan in ime selber; want dirre grunt ist ein einveltic stille, diu in ir selber unbewegelich ist" ["Эта искра <...> не довольствуется ни отцом, ни сыном, ни святым духом, ни троицей, пока из всех лиц каждое заключено в своей свойственности. Воистину говорю, свет этот не удовольствуется плодоносной врожденностью божественного естества. Скажу я и более, что звучать будет еще диковиннее: клянусь я благою истиной, что свету этому не довольно простой недвижности божественной сущности, ничего не отдающей и ничего в себя не вбирающей; и еще более: свет жаждет знать, откуда сущность эта приходит, он жаждет простого основания, безмолвной пустыни, где никогда не усмотришь никакого различия, где нет ни отца, ни сына, ни святого духа; во внутренних недрах, в ничьей обители, там свет сей находит удовлетворение, и там он более един, чем в себе самом; ибо основание здесь — просто покой, в самом себе неподвижный"]. Душа обретает полное блаженство лишь тем, "daz sie sich wirfet in die wuesten gotheit, da noch were noch bilde enist, daz sie sich da verliese unde versenke in die wuestenunge"[33] ["что бросается она в пустынное божество, где нет ни творения, ни образа, дабы себя там утратить и затеряться в пустыне"].