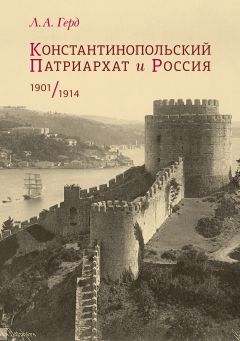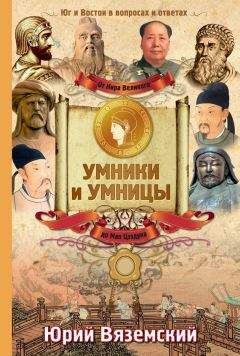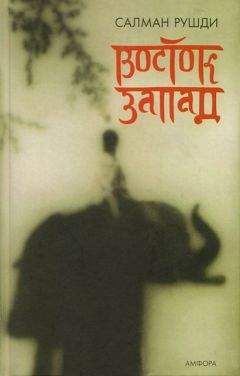Герд Кёнен - Между страхом и восхищением: «Российский комплекс» в сознании немцев, 1900-1945
Подобный опыт позволил большевикам продолжать свою наступательную и многоколейную антигерманскую политику последних недель мировой войны и сделать ставку на будущий германский ревизионизм или реваншизм (разумеется, в контексте своих собственных планов удержания власти). Однако при этом они исходили из весьма сомнительной картины мира. Гражданская война в России неизменно интерпретировалась ими как антибольшевистский «крестовый поход Антанты». А Польша Пилсудского, с которой летом 1919 г. начались первые бои, а в 1920 г. дело дошло до большой войны, считалась просто инструментом империализма, точно так же, как основанные незадолго до этого «буржуазные» национальные государства в Прибалтике, Финляндии или на Кавказе.
Естественно, при описываемой таким образом ситуации в мире было крайне важно, чтобы разбитый рейх не сделался еще одним, возможно, решающим инструментом в руках Антанты. С точки зрения Москвы, главными агентами западных держав-победительниц считались прежде всего социал-демократы большинства в рейхстаге и католическая партия «Центр». Принятое осенью 1919 г. правительством рейха прагматическое решение не участвовать в блокаде Советской России и одновременно не возобновлять с ней отношения явилось типичным свидетельством оппортунизма коалиционного правительства Веймарской республики.
Зато Московское государство, восстановленное большевиками, выступило теперь на мировую арену как ведущая ревизионистская держава, протестующая против мирового порядка, навязанного Версальским договором. На II Всемирном конгрессе Коминтерна летом 1920 г. Ленин развернул панораму глобального «решительного сражения» между ничтожным меньшинством мировых эксплуататоров, капиталистов западных стран-победительниц и блоком угнетенных, включающим не только международный пролетариат и эксплуатируемые народы колоний, но и массу граждан в странах, «которые побеждены и брошены в положение колоний». Сюда явно относились в первую очередь побежденная Германия и ее союзники{772}. Таким образом, Коминтерн становился уже не только боевой организацией рабочих всех стран, но и боевой организацией всех ограбленных и угнетаемых «Версальской системой» народов. И если языками общения женевского «союза народов» на первых порах были английский и французский, то языками общения «Третьего Интернационала» — русский и немецкий, а Берлин наряду с Москвой выдвигался в качестве второй столицы Коминтерна[139].
Глобальное противостояние сочеталось с собственными ревизионистскими целями Советской России. Так, новые республики, вышедшие из состава бывшей Российской империи, несмотря на признание на словах их права на самоопределение и установленные в 1920–1921 гг. после безуспешных попыток восстаний и интервенций дипломатические отношения, и далее находились под вопросом. Уже в этом прослеживалась параллель интересов с разбитым и урезанным, но в своей сердцевине невредимым Германским рейхом, который также лишь частично признал новый государственный и территориальный порядок Центральной Европы.
«Для России союз с Германией открывает гигантские экономические перспективы, независимо от того, скоро ли там победит германская революция», — заявил Ленин на IX конференции РКП(б) в сентябре 1920 г., на которой он просил делегатов «записывать меньше», поскольку хотел без околичностей рассказать о провалившемся походе на Варшаву. Соответственно Красная армия, перейдя к наступлению и попытке «советизации» и уничтожения Польши (служившей опорой всего Версальского договора[140]), должна была одновременно разрушить «весь Версальский мир». По его словам, приближение Красной армии привело к тому, что в Германии, и прежде всего в Восточной Пруссии, возник блок крайних националистов с коммунистами, черносотенцев с большевиками; и этот «противоестественный блок» был «за нас». Изданных наблюдений Ленин делал куда более далеко идущий вывод, что германская буржуазия в сущности «за нас»{773}.
Таким образом, все обсуждавшиеся в рамках брестских «дополнительных договоров» 1918 г. темы и возможности (несмотря на их денонсацию) с позиций большевиков были как никогда актуальными. Несмотря на поражение, Германский рейх — «вторая в мире страна по степени экономического развития», заявил Ленин в декабре 1920 г. в речи о «концессиях» (т. е. об ограниченном привлечении иностранного капитала){774}. А специалисты указывали, что «электроиндустрия Германии находится на более высоком уровне, чем американская», вот почему ей (делали они вывод) в проекте электрификации России (волшебном гигантском плане ГОЭЛРО) следует отвести ключевую роль. Короче говоря, Германия и Россия, с точки зрения Ленина, — это все еще «два будущих цыпленка, под одной скорлупой международного империализма», которую они совместно должны разбить.
«Побеждена, но не уничтожена»
Точка зрения Ленина действительно совпадала с позицией многих немецких военных, политиков и промышленников. Германский рейх, чей экономический и управленческий аппарат, несмотря на поражение в войне и революцию, сохранился, очень скоро вернулся в экономическую имперскую колею довоенных лет. Граф Брокдорф-Ранцау, новый министр иностранных дел, сделал в начале 1919 г. такую запись: «Мы побеждены, но не уничтожены. На несколько лет мы ослаблены, но в состоянии снова стать на ноги»{775}. Граф Бернсторф, руководивший комиссией по выработке немецких условий мирного договора, заявил, что подписание или неподписание его будет зависеть в конечном счете от того, «убьет ли экономически Германию мир, навязанный нам, или нет». Именно поэтому проблема репараций стала господствующей темой, в большей мере, чем территориальные вопросы или проблемы разоружения{776}. Штреземан через несколько лет назвал относительно неповрежденный экономический аппарат рейха «единственным, что все еще делает нас великой державой»{777}.
Именно так, однако, видели ситуацию и союзники, прежде всего Франция, которая, несмотря на победу, находилась в еще более безнадежном, чем Германия, социально-экономическом положении и не смогла добиться своих далеко идущих целей на Версальских переговорах, предполагавших радикальное урезание германского державного потенциала или фактический распад рейха. В этом смысле Франция, как и Италия, Польша или Румыния, была реваншистской и никоим образом не удовлетворенной державой, но притом державой, которая могла активно использовать инструменты принуждения, созданные Версальским договором.
Во внутренней властной структуре рейха в результате краха государства и армии и частичной смены элит еще больше возросло значение объединенной в синдикаты германской экономики, которая, казалось, на определенный исторический момент почти приблизилась к ленинским представлениям о классе капиталистов-монополистов. После идеалистически приукрашенных прорывов к созданию единой справедливой мировой экономической системы под эгидой Лиги наций, о которых германская сторона высказалась в апреле 1919 г., и после прагматических предложений (вроде замены репараций участием союзников в германской промышленности), не встретивших в Версале никакого отклика, снова ожили представления об «экономических областях», гегемонистски огражденных или закрепленных на договорной основе.
Перед лицом закрытых западных рынков капитала и товаров и неясной ситуации в Центральной Европе в Германии возобладала точка зрения, что «на ближайшее будущее в качестве главной экономической области будет приниматься в расчет гигантская Российская империя с ее исключительно обширными и нетронутыми природными богатствами и ее практически неограниченными экономическими возможностями», как писал в апреле 1919 г. директор Национального банка Яльмар Шахт{778}. Сомнение вызывал только вопрос, должна ли «активная германская восточная политика» еще раз попытаться (чего требовал Брокдорф-Ранцау) помочь поставить на ноги «демократическую Россию, которая будет близка нам в политическом и экономическом отношениях», или необходимо опереться непосредственно на прошлогодние переговоры о Брестских дополнительных договорах и воспользоваться явным интересом московского советского правительства, озабоченного проблемой выживания, к социально-экономической связи с Германией, на чем настаивали руководящие деятели прежнего «Консорциума “Россия”».
В июне 1919 г. «АЭГ» и еще несколько фирм отправили в Москву молодого сотрудника для зондирования ситуации. В своем отчете он написал, что советское правительство считает «желательным тесное объединение с Германией» и «готово всемерно идти навстречу», якобы даже отказаться от всякой «пропагандистской деятельности» (революционной) и начать переговоры «по вопросу репараций». Обсуждались также предложения «принимать немецкую интеллигенцию и немецких квалифицированных рабочих, желающих приехать в Россию… под эгидой какой-либо германской комиссии». Однако эмиссар весьма скептически высказался о практических возможностях какого-либо экономического обмена{779}.