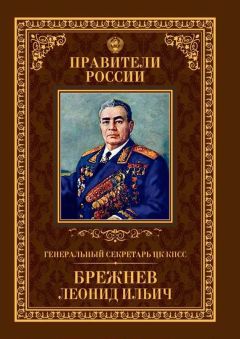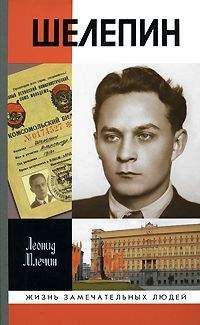Сергей Семанов - БРЕЖНЕВ: ПРАВИТЕЛЬ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
В книге М. Лобанова мы сталкиваемся с давно набившими оскомину рассуждениями «о загадке России», о «тяжелом кресте национального самосознания», о «тайне народа, его безмолвной мудрости», «зове природной цельности» и в противовес этому — о «разлагателях национального духа». В рассуждениях этих нет и грана конкретно-исторического анализа. Нет понимания элементарного — того, что «национальное чувство», «национальный дух» декабристов и Николая I, Чернышевского и Каткова, Плеханова и Победоносцева несовместимы, что в классовом обществе нет и не может быть единого для всех «национального самосознания».
Внеисторический, внеклассовый подход к проблемам этики и литературы характерен для понимания М. Лобановым эпопеи Л. Толстого «Война и мир» (статья «Вечность красоты», «Молодая гвардия», № 12, 1969). Отечественная война 1812 года трактуется М. Лобановым как период классового мира, некоей национальной гармонии. Неприятие М. Лобанова вызывают идеи Великой Французской буржуазной революции: якобы избавление от них как от «наносного, искусственного, насильственно привитого» и возвращение к «целостности русской жизни» обеспечило, по его мнению, «нравственную несокрушимость русского войска на Бородине».
Насколько далеки подобные утверждения от истины, говорит уже то, что влиянию этой революции и идейно подготовившей ее философии просветителей лучшая часть русского общества во многом обязана формированием передовых идей своего времени, что без этого влияния невозможно представить себе духовную атмосферу эпохи Пушкина и декабристов.
Не менее категоричен М. Лобанов и когда обращается к современности. «Одно время наша литература о деревне, — заявляет он, — была активна, так сказать, организационно-хозяйственными предложениями, рекомендациями, что ли. В какой мере такие рекомендации мало подходят для целей литературы, показал опыт работы В. Овечкина, в свое время писавшего страстные, убежденные очерки, которые, однако, вскоре угасли в своей практической актуальности именно из-за узкопрактической своей проблематики».
Итак, очерки В. Овечкина утратили свою актуальность. Но в чем состоит альтернатива? На этот вопрос, перекликаясь с М. Лобановым, отвечает в журнале «Кодры» (№ 3, 1971) Л. Аннинский. Он пишет:
«От Троепольского и Овечкина, от Жестева и Калинина, от тогдашнего Тендрякова и тогдашнего Залыгина был деревенской прозе завещан, так сказать, «экономический» анализ человека… Были написаны повести и романы В. Фоменко и Е. Мальцева, С. Крутилина и В. Семина, Ф. Абрамова, П. Проскурина, Е. Дороша… Была создана панорама событий в деревне.
Имела эта панорама решающий успех и литературе?
Нет. Она вошла, конечно, в ее анналы и в ее фонды… Но событие произошло не здесь. Рядом.
Событием стали лиричные сельские рассказы и философские эссе молодых деревенских писателей… На смену трезвому хозяйственнику пришел деревенский мечтатель, лукавый мужичонка, балагур, чудак, мудрец, древний деревенский дед, хранитель столетних традиций…»
Если верить М. Лобанову, «современную литературу наши потомки будут судить по глубине отношения к судьбе русской деревни… Истинные ценности, прежде всего нравственные, всегда дождутся своего времени. И хорошо, что наша деревенская литература все более насыщается этими ценностями, которые излучаются из недр крестьянской жизни».
Подобное же мировосприятие по-своему выражено в книге стихов «Посиделки» В. Яковченко: «О Русь! Люблю твою седую старину… Вон позабытый старый храм над колокольней поднял крест, как руку, как будто ждет условленного звука и жадно смотрит в очи небесам. Ах, старый, старый, позабытый храм…»
А пока один тоскует по храмам и крестам, другой заливается плачем по лошадям, третий голосит по петухам.
Вздохами о камнях, развалинах, монастырях перегружена подборка стихов «Поэты Армении» («Новый мир», № 6, 1972). Лирический герой одного из стихотворений сидит у окна и видит, как на грузовиках везут лошадей, «которые тысячи лет все перевозили и переносили, взвалив историю человечества на свой выносливый круп, выбив копытами эту историю». И ему кажется, что надо спасать прошлое от настоящего: «Как мне вас выручить, кони мои? Как мне спасти вас, кони? Что я могу — подавить рыданье, душу за вас отдать…»
И. Кобзев в свою очередь грустит, что «в Москве не слышно петухов», и пишет: «Порой меня снедает грусть: о, сторона моя родная, куда ж ты задевалась, Русь, веселая и разбитная?!»
Во многих стихах мы встречаемся с воспеванием церквей и икон, а это уже вопрос далеко не поэтический. «Раньше можно было в небесах приют найти — несговорчивая сила нам отрезала пути», — жалуется В. Яковченко. Сусально-олеографическая деревенская Русь впрямую противопоставляется современному городу. «Говорят, что скоро, очень скоро сельский люд ввезет на этажи…» — скорбит В. Яковченко. Город, индустрию он рисует в образе некоего абстрактного «зла», «железа», которое, как «злой гений, вознеслось»:
«Обрело язык железо, зык его и зол и резок. Рвать! Рубить! Дырявить, резать! Вот законы. Вот права. Сталь растет. Растет железо, как гигантская трава. Стой! Питаемое веком, зреешь ты над человеком, все растешь. Все мало, мало!..»
Видение прямо-таки апокалипсическое!
По сути дела, за всем этим — идейная позиция, опасная тем, что объективно содержит попытку возвернуть прошлое, запугать людей «злобным духом железного воя», «индустриальной пляской», убивающей якобы национальную самобытность. При этом альтернативой подобным «страхам» предстают призывы к «освоению простонародности», поиски вечной, неизменной морали, утверждение веры «в нравственное начало… не зависимое ни от чего, кроме того, что оно — нравственное, веры в то самое вечно обновляющее личность внутреннее духовное качество, которое в русской культурной традиции всегда называли совестью».
Ленин в свое время, как известно, говорил: «Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем». В ряде работ он писал об исторической ограниченности патриархального крестьянства, его забитости, сервилизме, рабской психологии, воспитанной веками подневольного труда, вскрыл двойственность его природы как мелких собственников, с одной стороны, и тружеников — с другой. Напомним, с какой огромной художественной силой и глубиной эта диалектика, двойственность природы крестьянства, показана, например, в романах М. Шолохова.
Тот, кто не понимает этого, по существу, ведет спор с диалектикой ленинского взгляда на крестьянство, с социалистической практикой переустройства деревни. Тогда и возникают разного рода вульгарно-объективистские утверждения.
«Мы очень охотно ругаем нынче патриархальность, и слово это в нашей практике приобрело заведомо бранный характер, — сетует в статье «Земля и прогресс» А. Ланщиков (альманах «Кубань», № 10, 1971). — Но здесь не все так просто, как может показаться с первого взгляда… Говоря о патриархальном укладе, мы сплошь и рядом забываем, что в нем воплотились многовековые деяния, нравственный и духовный опыт трудового класса, что именно этот, а не какой-либо другой уклад обеспечил этому классу жизнестойкость в самых трудных исторических ситуациях…» В романе «Оленьи пруды» М. Кочнева утверждается: «Русской деревне даже в самые беспросветные времена никогда не была свойственна ограниченность, равная идиотизму, и обвинить ее в идиотизме мог только тот, кому за каждым кустом, растущим за городской заставой, мерещится страшный серый волк…»
В том же романе читаем: «Все — сатрапы, все — холуи, все — рабы прикровенные и откровенные… Нация холопов… А не пересолил ли дорогой наш Николай Гаврилович…» — говорит один из героев романа. Герой положительный, и все симпатии автора на его стороне. Полемика идет не только с Чернышевским, но и с Лениным. Чтобы убедиться в этом, приведем соответствующее место из работы Ленина «О национальной гордости великороссов»: «Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения». Кстати, у Чернышевского нет слов «рабы откровенные и прикровенные» — это у Ленина. И не «всех» Ленин называл «холуями», «рабами прикровенными и откровенными», а только тех, кто был «рабом по отношению к царской монархии».
С кем же в таком случае борются наши ревнители патриархальной деревни и куда они зовут?..
Но что там нравственные ценности былого, если даже «традиции» гастрономического свойства стали предметом скорби! Согласно В. Кожинову, утрата национального своеобразия особенно резко проявилась у нас… в отношении к еде. «Еда — и в своей семье, и на миру — испокон веков была настоящим священнодействиям и обрядом. Она начиналась и заканчивалась благодарственной молитвой…» — пишет В. Кожинов в журнале «Кодры» (№ 3, 1971), рисуя далее картину «русской еды» с ее обилием, красотой и «одухотворенностью» как нечто национально особенное, связанное «с тысячелетним опытом, с народной традицией». Не кощунственно ли звучит все это? Если следовать логике рассуждений В. Кожинова, то плотоядный гоголевский персонаж — Петр Петрович Петух окажется самым ярким носителем национальных традиций. Следует, может быть, напомнить В. Кожинову, с каким гневом писала русская литература о барском обжорстве и с какой болью говорила она о русских деревнях, называвшихся «Горелово, Неелово, Неурожайка тож».