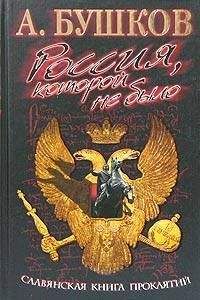Иван Калинин - Русская Вандея
Транспорт находился на краю гибели. Правильное пассажирское движение отходило в область преданий. Переезд от Ростова до Екатеринодара являлся подвигом. О переполнении вагонов в то время можно судить по следующему факту, сообщенному «Вольной Кубанью».
Сессия Ставропольского окружного суда, в составе членов суда Семенова, Кротова и Скрипчинского, при товарище прокурора Антоновском, отправлялась в село Воронцовку Александрийского уезда. За недостатком места в вагонах все они поместились на крышах. На станции Невинномысской жандарм начал сгонять публику плетью с крыш. Судейские отказались спускаться, требуя себе места в вагонах. Жандарм довел об этом до сведения коменданта. Поезд тронулся, но на второй версте его остановили. Явился комендант с двумя жандармами, арестовал всю сессию и, не дав возможности даже захватить дела, погнал пешком на станцию.[260]
О взяточничестве на железных дорогах кричали во всю глотку.
«Вагоны в первую очередь получают частные отправители, но отнюдь не государственные учреждения. Стоит только дать на смазку колес 1200–1500 рублей. Ясно, что подобные повагонные куши только и могут платить спекулянты, категория, которой безразлична себестоимость. В результате — и города, и железные дороги без угля».
Так писало харьковское «Вечернее Время» в сентябре.[261]
8 октябре Врангель, в виде прелюдии к екатеринодарской расправе, приказал повесить заместителя начальника станции Царицын, весовщика и составителя поездов за то, что они, пользуясь своим служебным положением, за взятки отправляли с воинскими эшелонами частные грузы, задерживая раненых и предметы снаряжения.[262]
9 ноября ген. Май-Маевский телеграфировал Деникину о том, что подаваемый на железные дороги уголь представляет собою настоящий мусор, что из-за этого возможны катастрофы, что общий голос считает причинами такого качества угля колоссальнейшие злоупотребления при приемке, так как пробы угля обыкновенно бывают хорошие.
— Вешайте беспощадно! — лаконически ответил Деникин.[263]
Май-Маевский арестовал начальника Южных дорог, но, конечно, не повесил. Тем все и кончилось.
— Дров нет! Угля нет! — отовсюду доносились вопли с приближением зимы.
Угольные копи находились под боком Ростова и Новочеркасска,[264] но мы, грешные, люди больших и малых чинов, служащие всевеликого войска Донского, жили в нетопленных квартирах.
Круг занялся обсуждением вопроса об угольном кризисе, проболтал несколько дней и никакого решения не вынес. Да если бы и вынес, то в жизнь оно не прошло бы при той вакханалии взяточничества и своеволия, которая царила во всех сферах.[265]
В тыловых городах стало жить даже хуже, чем в прифронтовой полосе. Там жили грабежом, введенным в систему. В тылу открытый грабеж все же считался признаком дурного тона.
«Нам хорошо известно, в каком ужасном положении находится человек, борющийся с голодной смертью, — писали в своей петиции Деникину железнодорожники. — Может ли он честно и усердно выполнять порученное ему дело и можно ли требовать от него продуктивной работы? Жалованье наше увеличено в среднем в десять раз против окладов мирного времени, тогда как грузовые тарифы в тридцать пять, а пассажирские в пятнадцать. Для нас нет другого выхода, как распродажа своего последнего скарба, а дальше, быть-может, голодная смерть для одних, или путь, известный уже для многих, путь преступления для других.[266]
О том, чтобы завести себе новые брюки, честные служащие не смели и думать. Мне удалось в ноябре сшить новые сапоги только при протекции помощника — ростовского генерал-губернатора А. Я. Беляева, который замолвил слово в одном учреждении, работавшем на армию (Докат). Некоторые из моих сослуживцев ходили в рваных башмаках и заплатанных брюках.
Мне дважды пришлось участвовать в комиссии по выработке окладов содержания чинам Донской армии.
Комиссия начинала работать при одних рыночных ценах и кончала при других, так что новые ставки еще до утверждения их оказывались столь мизерными, что опять приходилось их пересматривать. Круг в конце концов начал обсуждать вопрос об удовлетворении служащих натурой, как это делалось у большевиков. Для получения же государством из станиц предметов питания возникла мысль об устройстве в г. Ростове обменного двора. Деньги утрачивали смысл. Белый стан, под влиянием экономической разрухи, переходил к коммунистическим порядкам!
Из-за недостатка продуктов юг России обратился в Обломовку: забота о пище стала главной заботой, с тою лишь разницей, что обломовцы думали, как бы повкуснее поесть, а на юге России — что бы поесть.
«Деревенская интеллигенция еле-еле существует, перебиваясь с хлеба на квас. Раньше газеты читали, кружки самообразования устраивали, библиотеки заводили, книги выписывали, а теперь только о хлебе и думаем», — сообщали «Донской Речи» провинциальные корреспонденты.[267]
Мелкое политиканство, ругань по адресу Доброволии после екатеринодарского «действа» несколько заглохли. Зато об общественных язвах, порожденных отчасти и дурным управлением, начали раздаваться довольно смелые голоса. Наступление Буденного еще только обозначалось, еще шнурок, отмечавший на карте наш фронт проходил далеко к северу от Ростова, но внутреннюю разруху уже расценивали как предвестник провала всего белого предприятия.
«После майско-июльских побед, — писал в ноябре полк. С. Бородин в «Донских Ведомостях», — когда разбитые красные армии спешно отступали на север, когда армии ген. Деникина захватывали огромные средства войны, казалось, что войне в 1919 году наступает конец. Но оказалось, что до конца еще далеко, и трудно сказать, когда война кончится. Конечно, причина в том, что красные к августу успели оправиться и приступили к активным действиям; но в значительной степени в затяжке войны виноваты и белые. И вот о виновности белых нужно не молчать, ссылаясь на необходимость секретов, а громко говорить. Секреты, которые приносят вред, нужно отбросить. Есть язвы белого тела, которых нужно не укрывать рубищами, а лечить действительными средствами. Первая язва — это грабежи. Вторая — спекуляция. Третья — узкоклассовая пропаганда и агитация. Четвертая — утрата чувства общего в пользу личного, уклонение от долга по корысти и трусости. Пятая — общий упадок производительной энергии, леность, страсть к наслаждениям. Когда русские крестьяне испытали на себе применение коммунистических принципов, они с неописуемым восторгом (?) ждали прибытия добровольцев и казаков. И вдруг, к стыду нашему и своему ужасу, они увидели, что белые воины, как и красные, днем и ночью, с оружием и без оружия, берут бесплатно крестьянское добро. — «А ведь мы вас ожидали, как спасителей от большевиков!» И крестьяне на вопрос, кто лучше, отвечают кратко и выразительно: «Уси гарны».[268]
Первый существенный удар по лицу великая и неделимая получила на Украине.
Самое движение туда составляло большую ошибку. Заняв этот край, Доброволия не только не распутала клубка тамошних сложных взаимоотношений между политическими группировками, а внесла еще большую путаницу и смуту в украинскую жизнь. «Землеробы», те самые зубры, которые возвели, с помощью немецких штыков, на престол светлейшего гетмана, приветствовали и добровольцев. Мелкая буржуазия, часть городской и большинство деревенской интеллигенции склонялись к Петлюре. Рабочие — за Советскую власть. Крестьяне по преимуществу соблюдали нейтралитет. Анархические и бандитские элементы города и деревни признавали только батько Махно.
Доброволия, с ее реакционной политикой и презрением к национальным особенностям, возбудила общую ненависть. Май-Маевский, например, издал приказ, воспрещавший преподавание на родном языке в государственных и общественных школах.[269]
Махно не замедлил выступить.
Бандит чистейшей воды, он старался придать своим грабежам и погромам характер идейной борьбы, то против «панов», то против «жидов», то против коммунистов, то против добровольцев, смотря по обстоятельствам.
Голытьба обожала смелого атамана. Крестьяне давали ему пристанище, зная, что батько расточителен и щедр, но и беспощадно мстителен.
Его шайка, разгромив городок или напав на обоз, стремительно уезжала с награбленным добром на «тачанках» и в первой же деревне исчезала бесследно, рассеивалась среди населения, как дым в воздухе.
Никакой преследователь не мог распознать среди крестьян, кто из них махновец, только что примчавшийся с грабежа, кто мирный деревенский труженик.
Про неуловимость Махно, про его смелые выходки в белом стане сложились легенды. Говорили, что иногда он переодевался в крестьянское платье и приезжал в большие города, занятые добровольцами, под видом торговца овощами. А потом, будто бы, на городских заборах появлялись афишки: