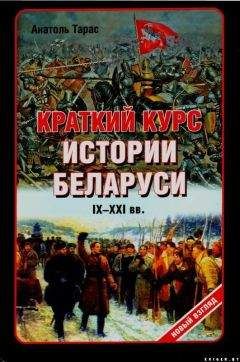Альберт Манфред (Отв. редактор) - История Франции
Особенно тяжело ложилась на крестьянство неравномерность налогового обложения: сбор тальи был возложен на местную администрацию. Интенданты и их субделегаты налагали талью на общины по своему усмотрению: богатая (по их мнению) община должна была платить больше, бедная — меньше; внутри общины талья распределялась не менее произвольно. Поэтому для крестьянина показаться зажиточным зачастую означало полное разорение, ибо откупные приставы уводили за недоимки скот, увозили остатки зерна, уносили из хижины всю жалкую утварь.
Не меньше донимали крестьян «стрелки габели», соляные надсмотрщики, врывавшиеся в дома в поисках контрабандной соли; контрабандной считалась даже просто соль хорошего качества, так как откупщики, пользуясь монополией, зачастую засоряли соль примесями, чтобы повысить свои доходы. Известны и случаи преднамеренного отравления соли, отпускаемой для технических целей (засолка кожи и т. п.), чтобы потребители не воспользовались дешевым продуктом. Для целей надзора содержались огромные отряды ненавистных народу «габелеров»; ежегодно в тюрьмах Франции содержалось не меньше 2–3 тыс. нарушителей соляной монополии, ожидавших приговора к казни или галерам[251].
Сохранилось письмо епископа Масильона, отправленное им в 1740 г. из Клермона в провинции Овернь министру Людовика XV Флери. В этом письме мы читаем: «Народ в наших деревнях живет в чудовищной нищете, не имея ни постели, ни утвари. Большинству около полугода не хватает их единственной пищи — ячменного или овсяного хлеба, в котором они вынуждены отказывать себе и своим детям, чтобы иметь, чем оплачивать налоги… Негры наших островов бесконечно более счастливы, так как за работу их кормят и одевают с женами и детьми, тогда как наши крестьяне, самые трудолюбивые во всем королевстве, при самом упорном труде не могут обеспечить хлебом себя и свои семьи и уплатить причитающиеся с них взносы. Если в этой провинции находятся интенданты, говорящие иным языком, это значит, что они пожертвовали истиной и своей совестью ради презренной карьеры» 29. Не во всех провинциях, однако, положение было столь катастрофическим: если в Пикардии четыре пятых крестьян не имеют лошадей 30 (но все же владеют третью земли), то Фландрия или Лангедок считаются гораздо зажиточней.
Усиливается классовое расслоение деревни, в которой выделяется, с одной стороны, прослойка крепких фермеров, покупающих или арендующих земли разоряющихся сеньоров или даже перекупающих их от временного владельца — буржуа, и, с другой, значительно большая масса парцеллярных крестьян и совсем безземельных батраков. Многие из них пытались укрепить свой нищенский бюджет работой на «рассеянной мануфактуре», другие становились рабочими-сезонниками, уходя в города или оседая на местных бумажных мельницах, росших в связи с развитием книгопечатания в стране. И если у рабочих-горожан, занятых на централизованных мануфактурах, оставалась еще надежда на поддержку тайного, хотя бы запретного, союза, то в еще более жалком положении оказывались крестьяне-рабочие рассеянных мануфактур: работая поодиночке или всей семьей у себя дома, отданные во власть предпринимателя-скупщика, они прирабатывали гроши, позволявшие им как-то существовать после уплаты королевских налогов и сеньориальных поборов, и еще почитали себя счастливыми, что, кроме нищенского земельного надела, в их собственности имеется станок.
Реальная заработная плата (при которой на хлеб расходуется до 50 %, а на питание в целом до двух третей заработка) падала на протяжении всего столетия: с периода 1726–1741 гг. по 1771–1789 гг. прожиточный минимум возрос на 56 %; за то же время денежная заработная плата выросла на 17 %, т. е. реальная заработная плата снизилась за полстолетие в среднем на 24 %[252]. Резюмируя положение, французские историки пишут: «Когда цены поднимаются наполовину, прибыль удваивается, а заработная плата скромно возрастает на четверть. Экономический и социальный XVIII век целиком укладывается в эти три цифры: трудящимся — крохи со стола экспансии, держателям земельной ренты — непомерные прибыли»[253].
Поэтому пришедшие в города разнорабочие без специальности, прозванные современниками gagne-deniers («зарабатывающие гроши»), рабочие бумажных мельниц и даже кустари-надомники представляли собой постоянный источник беспокойства для королевской администрации как самые необеспеченные и вследствие этого самые бунтовщические слои населения. И если, по словам крупного французского историка Марка Блока, «сельское восстание представляется столь же неотделимым от сеньориального порядка, как забастовка от крупного капиталистического предприятия»[254], то XVIII в. являет переходную картину, сочетая вспышки бунтов с первыми попытками самоорганизации рабочего класса и первыми стачками. Антисеньориальные бунты при этом сливаются с голодными бунтами в деревнях и городах, когда городские низы и крестьянская беднота захватывают хлеб, устанавливают на него «справедливую» цену и пускают его в продажу населению[255]. Современник-мемуарист отметил бунт прядильщиц-надомниц (Руан, 1752), протестовавших против снижения цен на пряжу, поддержанный всеми рабочими города[256]. Появляются сведения о рабочих стачках, в первую очередь среди рабочих бумажных мельниц (1750, 1772) в той же несчастной голодающей Оверни[257]. И крайне характерным показателем настроения народных масс является то, что в течение всего XVIII в. во Франции держалась и получила особое распространение в 70-х годах легенда о так называемом «голодном заговоре» короля, правительства и аристократов против народа[258].
К середине века народные выступления стремительно нарастают. 1747–1748 гг. выдались неурожайными. И в селах, и в городах крестьяне, рабочие, беднота испытывали величайшую нужду. Доведенные до отчаяния люди брались за вилы и топоры. То здесь, то там, в разных концах королевства вспыхивали народные восстания. Огонь народных мятежей, перекидываясь по всей стране, подошел к Парижу. В 1750 г. столица оказалась также втянутой в водоворот событий. На улицах начались вооруженные выступления бедноты, с трудом подавляемые королевскими войсками. Был момент — в середине года, когда казалось, что королевская власть не сможет устоять — она будет снесена половодьем народного негодования.
Но час крушения феодально-абсолютистской монархии еще не пришел. С помощью верной ей армии монархия подавила народные выступления. Но внутренняя гнилостность режима, его историческая обреченность становились все очевидней. «Мы приходим к последнему периоду упадка», — писал в июне 1758 г. видный правительственный чиновник аббат де Берни, и это слово «упадок» (decadence) вскоре стало одним из самых распространенных, когда речь заходила о положении в королевстве.
В 50-60-х годах области «большой габели» на востоке Франции были охвачены «движением Мандрена» — широко развернувшимся движением контрабандистов солью, переросшим в народную войну [259] против откупной системы. Властям пришлось послать против Мандрена отряд в 2 тыс. человек, но правительственным войскам трудно было бороться с контрабандистами, окруженными всеобщим сочувствием народа. В конце концов Мандрен был предательски схвачен на территории Сардинского королевства, привезен во Францию и казнен, но песня о Мандрене, la Complainte de Mandrin, живет в памяти французского народа и в середине XX в.
В этой стране голода, нищеты, народных бедствий королевский Версаль представлял собой совсем иной, обособленный мир. Голоса народной нужды не проникали за зеркальные окна версальского дворца. Здесь звучала музыка — клавесин, лютни, скрипки. По вечерам бессчетные ряды окон озарялись ярким светом. Королевский дворец ослеплял роскошью, богатством, великолепием. Приезжие знатные гости удивлялись: какая легкая, счастливая, беззаботная жизнь неторопливо течет в этих парадных праздничных залах.
То были иллюзии. Верным было лишь то, что здесь никто не думал о бедственном положении королевства. Кому какое дело до того, что кто-то страдает, что кто-то мучается? Здесь развлекались: королевские охоты сменяли костюмированные балы; театральные представления чередовались с пышными празднествами. Деньги текли без счета. Король Людовик XV уверенно говорил: «На мой век хватит». Ему приписывали и другое изречение: «После меня хоть потоп». Эти циничные афоризмы весьма точно передавали дух царствования Людовика XV. Избалованный, капризный, ограниченный и слабый человек, король видел главное назначение монархии в том, чтобы безоговорочно и немедленно удовлетворять все прихоти, все самые взбалмошные и необузданные желания ее главы.
Но этот монарх, любивший позу могущественного властителя, всесильного самодержца, был лишь по видимости единственным повелителем своих подданных. В действительности страной правили его фаворитки — по очереди — госпожи Шатору, Помпадур, Дюбарри, или, вернее сказать, фавориты фавориток. Праздничная жизнь во дворце скрывала за собою тайные козни, происки, интриги. Сведущие люди знали, что добиться королевского указа или иного решения можно было, действуя не через министров, а через субреток или возлюбленных госпожи де Помпадур. Было также хорошо известно, что мнение этой дамы важнее любых официальных инстанций.