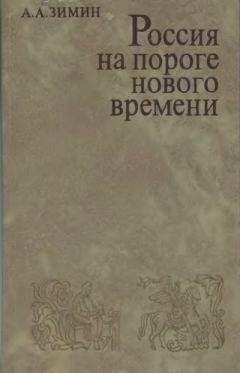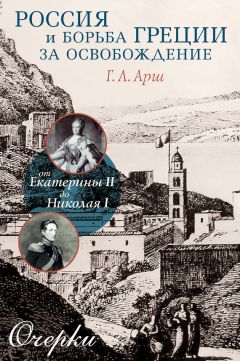Н Кривошеина - Четыре трети нашей жизни
Продолжают ко мне изредка заходить и некоторые Никитины друзья по вечерней школе -- одни пытаются учиться дальше, другие счастливы, что хоть десятилетку одолели, очень немногие начинают проходить курс ВУЗа заочно.
Словом, немало у меня было друзей в Ульяновске -- много больше, чем следовало ожидать; в этом глухом городе, который одной ногой стоит в Азии, всем про все известно, устная газета работает бойко; здесь дружат через дом -- с ближайшими соседями своими обычно никто не разговаривает, а то и просто не кланяются (впрочем, во французской провинции так же), ну, а по вечерам, идя с работы, стоят у сеней и шепчут -- и что было в татарском квартале: "а он его поджидал у дверей и ножом под живот и полоснул, ну и кишки вон"; или "как жених стал радиоаппарат-то чинить, а сам его и не отключил, ну, вот, подумай, так парень и прилип, а она, Галина-то, как бросилась его тащить и... сама прилипла... вот тут уж мать подумала, да рубильник выключила, а оно уж поздно..." Вот в эту же категорию диковинок попадала и я: моя фигура с Ульяновском никак не сливалась, кое-кого моя судьба ужасно раздражала... Эту мысль весьма ярко и точно выразила однажды моя соседка Салтычиха; как-то она с Агриппинной Алексеевной стояла у моего открытого окна и что-то хозяйственное громко с ней обсуждала -- а тут как раз, стараясь быть совсем скромным, появился рядом с ними мой Васька. "Ах! Паршивый кот!" -- нарочито громко воскликнула Агриппинна. "Да что уж говорить, - поддержала ее Салтычиха, -известно, что хозяева -- то и их животные..., -- и, помолчав, добавила, тоже громко, четко (это привожу дословно!), - вот надо же, приехала к нам эта проклятая аристократка с голоду подыхать!"
Однако и среди будто "своих" тоже были такие, которые активно проявляли свое недоброжелательство. Незадолго до нас приехали в Ульяновск некая Madame Marie, совсем простая француженка, и ее муж, русский, попавший во Францию сразу после Гражданской войны. Он проработал рабочим на каком-то заводе на Севере, там познакомился с Madame Marie, детей у них не было, и он решил вернуться домой. Я ее как-то встретила в Переселенческом Отделе, а позже она раз или два появилась у меня -- сразу после нашего переезда в прачечную-кухню. Несколько позднее она опять зашла, сказала, что они с мужем покидают Ульяновск и уезжают на Украину; и вдруг с негодованием начала мне толковать, как она вот уже месяц пытается собрать для меня денег, обошла всех "реэмигрантов", предлагая им, чтобы каждая семья хоть по десять рублей в месяц для меня сохраняла... -- "Pensez, pensez donc, Madame, on me dit d'aller chez cette grosse mйmиre, la Katchva -- lа. Je me prйsente chez elle gentiment, et qu'est-ce qu'elle me sort? C'est interdit, tout а fait interdit... Mais qu'est-ce qui est interdit? D'aider cette malheureuse dame? Mais c'est pas possible!! Que si, elle me fait, son mari est condamnй par un tribunal soviйtique, c'est qu'il est coupable et on n'a absolument pas le droit d'aider sa famiпle. Mais vous risquez les pires ennuis, chez nous il n'y a que les coupables qui sont condamnйs... Donc moi je m'y oppose formellement, а cette collecte, et je prйviendrai tous les autres!"
Тут Madame Marie расплакалась, повторяя на своем ломаном русском: "Что с вами теперь будет! Что делать?" Я ее благодарила, сказала, что раз говорит жена Качвы, то она уж знает, что говорит, что верно, все так и есть... -"Ah, mais quel pays, Madame, mais c'est pas humain des choses pareilles!" y Она ушла и через неделю с мужем уехала; через год, как я потом узнала, они сумели вернуться во Францию.
А выступление Елены Никифоровны Качва меня мало удивило: ведь ее муж был главным секретарем в Париже на rue Galliйra, когда там только начал зарождаться Союз Советских Граждан во Франции, сам был он с Украины, смазливый, бабник - все и вся знал, и вел тут дело крепко, решительно и... всегда с ласковым своим тенорком вырастал из-под земли, как тень. Он работал шофером такси в Лионе много лет, а тут сразу оказался при таком деле, в Париже -- вел себя в общем неглупо, хотя образования у него было -- ноль.
За последние годы, уж здесь, в Париже, нам пришлось прочесть несколько американских книг про КГБ и советских шпионов на Западе -- в списке, приложенном в конце одной из них, на букву К значился КАЧВА, многолетний агент КГБ во Франции.
Среди фигур, прошедших в те годы рядом с нами, даже как-то вклинившихся в нашу семью, оказались Гораций Аркадьевич Велле, его жена Фанни и двое их сыновей -- Юрий и Вовка. Они познакомились с Никитой чуть ли не на улице (это было в конце 1951 г. или зимой 1952г.). Были они во Франции коммунисты, смутно существовали какой-то семейной трикотажной мастерской, а Фанни, очень привлекательная, а временами и просто красивая, была коммивояжером у парфюмерной фирмы Docteur Payot, которая тогда только начиналась. Страх попасть в немецкую дьявольскую печь кинула их всех куда-то в горы, в maquis, но, слушая Горация, можно было подумать, что они, собственно, одни и руководили во Франции движением Сопротивления. Удивительный сам он был Хлестаков, пускал в Ульяновске всем пыль в глаза: он, мол, и писатель, и герой. Любимый рассказ его был, как он вдвоем с Юрой, которому тогда было 18 лет, освободили в 1944г. от немцев город Ля-Рошель. Грубо картавя, он всем давал понять, что так, как он, никто из приехавших в Ульяновск "реэмигрантов" не говорит по-французски... Фанни -- милая и добрая женщина, которой тогда было всего сорок лет, -- была, увы, сумасшедшей: первые признаки безумия обнаружились сразу после окончания войны. А когда она приехала в Ульяновск, ей стало хуже, она неоднократно попадала на месяц-два в психдиспансер, во главе которого стоял замечательный врач, знавший свое трудное дело психиатра до тонкости и всегда благожелательный -- Александр Иванович Скипетров; я от него видела много добра и внимания к себе, хотя до психдиспансера сама и не дошла, -- а ведь в 1954г. и я была от него недалеко; но это он меня удержал на поверхности, когда я вдруг начала тонуть...
Семья Велле кружила вокруг нас еще долгие годы; они никак не хотели выпустить нас из своей орбиты -- впрочем, дурного замысла у них не было. Бедного Горация еще в Ульяновске в сорок четыре года хватил "кондратий" -они жили втроем (Юра уж был в Москве) в чуланчике четыре метра на два; Фанни с утра уходила работать на фабрику "КИМ" рядом со мной, а я в течение месяцев двух-трех ходила к Горацию, кормила его с ложечки, резала ему кусочками хлеб, давала пить из стакана -- правая рука у него была парализована. Словом, их жизнь в Ульяновске была не сахар, но, когда я болела, они тоже старались мне помочь.
Наступил март 1953г. В этот день я куда-то ушла с утра, не успев утром послушать Москву; вернулась домой к часу и тогда только включила приемник... На меня волной хлынула траурная музыка; наверно, я ошиблась станцией, не ту кнопку нажала... Нет, музыка эта лилась на всех советских волнах. То Реквием Моцарта, то ноктюрны Шопена, то Лунная соната Бетховена, то Чайковский -Пятая симфония. Днем я все же пошла к Екатерине Николаевне: "Что это? В чем дело? Слыхали что-нибудь?" - Она шепотом ответила: "На базаре говорят, что Сталин заболел..." Эти слова иначе как шепотом невозможно было сообщать, еще вчера, пока не началась эта надрывная музыка, их вообще нельзя было не то, что сказать, но и подумать... Не мог же Сталин, как прочие люди... умереть!
Часам к шести я зашла к Любищевым, у них было тихо, никого чужого, и уж было понятно, что вот-вот тарелочка на стене что-то скажет, оповестит всех о случившемся, и от этой надрывной музыки останется страшный след. Ольга Петровна утирала глаза, на скрывая: как многие, прошедшие всю войну в мундире и на фронте, она преклонялась перед Сталиным, и это было у нее искренно, она верила, что он гений, что он обо всех заботится, что он великий государственный человек, что это он был победителем в войне... Сколько же я их таких видела, добрых, милых, всегда готовых помочь другому, людей! А я? Разве я знала про Сталина хоть часть правды тогда? Ведь мне, прожившей двадцать пять лет в Париже, могло бы быть понятнее... Но я тогда еще считала во всем виноватым Берию, мне казалось, что это он злой гений, а не Сталин... Я знала, что в стране происходило и произошло много лет тому назад нечто ужасное, собственно еще никому не понятное до конца; многие сумели устроиться, примениться к дикому устройству жизни, да и оно даже было удобно: "наверху сказали", "наверху решили", "наверху думают, что...", "руководство считает...", "начальник приказал", "начальник требует", ну, а мы ничего, мы исполняем, мы докладываем. Дети, те искренне верят, что жизнь стала краше, жизнь стала веселей!
... На следующий день встречаю на улице Любовь Александровну, она утром была в церкви, и там без конца подают записки священнику "О здравии болящего раба Божия Иосифа", а после обедни служили молебен с хором "о здравии".
... На улицах наскоро установлены громкоговорители, и печальная надрывная музыка объемлет весь город, весь транспорт, все заводы... Боже! Сколько же еще времени это возможно?..
Иду в дом к Екатерине Николаевне, к прелестной старушке, снимающей у нее комнату, с которой у меня дружба. Мария Федоровна -- ей тогда уж минуло восемьдесят -- сидит в своей чистенькой комнатке, вяжет крючком скатерти на круглый столик для продажи, и "тарелочка" изливает на нее траурные звуки. Она заваривает мне чаи, но, заметив, что я от этой музыки морщусь, предлагает ее выключить. "Да, да, прошу вас, Мария Федоровна, вторые сутки подряд, я просто не могу этого выдержать -- дома у себя наглухо выключила". Она качает с опаской головой -- как же это вы так? Мы садимся пить чай с какой-то сладкой булочкой; Мария Федоровна улыбается, у нее светятся при этом еще яркие и умные глаза. "А вот, -- говорит она, -- вчера с утра как слушаю, а с обеда прямо поставила стул поближе, вяжу да потихоньку плачу... И первого мужа вспомнила, и второго, и сына единственного, убитого в войну... Вот так вяжу себе и всех вспоминаю, и мне теперь так легко на душе, так легко..."